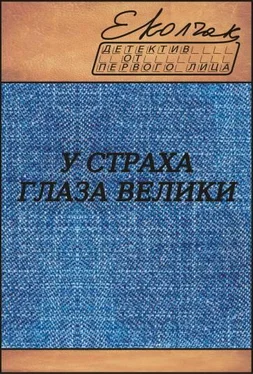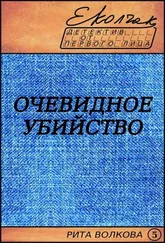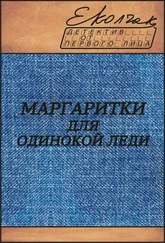Для начала можно предположить, что Вика «просто умерла». Но «просто» никто не умирает, так не бывает. Неожиданно стало плохо, потеряла сознание, не успев никого позвать? Нет. Не похоже. Она лежала в позе абсолютно мирно спящего человека.
И вообще — не верю. Тьфу! Тоже еще Станиславский! Почему «не верю»-то? Ну… Э-э… Да хотя бы потому, что с чего бы тогда Герман посуду нюхал и с листочками возился? Все забрал, один оставил — зачем?
Чтобы ситуация выглядела идеальным самоубийством, очевидно. Поскольку Вика только что потеряла мужа и неродившегося ребенка, это будет выглядеть более чем убедительно. Быть может, он посчитал, что это и вправду самоубийство — и решил довести картину до абсолюта?
Ох, вряд ли. Герман не из тех, кто старается позолотить лилию и покрасить розу. Он упрям, но совсем не глуп. Если бы он поверил в самоубийство, он вообще ничего делать бы не стал. И вообще… Зная сестру, он никак не мог подумать, что она сама… Ведь даже я ни на мгновение не усомнилась в том, что это не может быть самоубийством. В первые дни после аварии — еще куда ни шло. Потеря ребенка, смерть мужа, ощущение собственной вины — нездоровая смесь, может, и смертельная. Но потом-то настроение переменилось. Уже рисуя эти чертовы листочки, Вика пыталась… Нет, еще не повернуть к жизни, но хотя бы избавиться от стремления к смерти. А когда она три часа с моими документами разбиралась — ожила, даже глазки засветились. И это ее вчерашнее «спасибо», и намерение вернуться к работе. Притворялась? Зачем бы?
Нет, господа хорошие. И я в это не верю, и Герман никак не мог всерьез рассматривать версию, что Вика покончила с собой. А тогда манипуляции с «предсмертными» записками нужны — для чего? И зачем Герман ходил сейчас к Ядвиге Леонтьевне? Да чтобы заручиться ее поддержкой на предмет того, что, мол, у Вики была возможность раздобыть какую-нибудь отраву. В шкафах «Брюсовой башни» чего только не найти. А в состоянии депрессии наличие в пределах достягаемости яда запросто может оказаться пресловутой последней каплей. То есть, доступность яда должен убедить — тех, кого надо убеждать — в версии самоубийства.
Вот и скажите мне — почему понадобилось убеждать окружающих в том, что это самоубийство?
Очевидно, потому, что на самом деле это убийство. Только так. Отбросьте все варианты, которые точно «не годятся», и у вас останется единственно верный: если не самоубийство и не несчастный случай — а я как-то не очень представляю себе, каким образом эта смерть могла бы оказаться несчастным случаем — значит, убийство, так?
За окном свиристела какая-то сумасшедшая птица. Где-то в доме тихо стукнула дверь. Горло опять обволокло липким противным страхом. По спине пробежал жутковатый холодок. Да что там холодок — арктический вихрь. Повеяло могилой, фильмами ужасов, неслышно завыли вампиры и Фредди Крюгер начал медленно и страшно шевелить длинными пальцами…
В дверь постучали так тихо, что я едва расслышала. Мгновенно мелькнула мысль — быстренько запереть дверь и ни в коем случае не открывать! Но я и пошевелиться не успела…
Всему свое время. Время раскидывать грабли и время наступать на них.
Соломон (из неопубликованного)
Вот уж кого не ожидала, так это Ольгу с двоюродной бабкой. Кстати, почему я не учитывала в своих подозрениях Ядвигу?
— Рита, ты на днях мне говорила, что в редакцию тебе нужно появиться. Может, Оленьку с собой возьмешь, она очень интересуется, только попросить смущается.
Ольга не выглядела человеком, который «очень» чем-то интересуется. Разве что — забиться подальше в угол, под плинтус, и не отсвечивать.
Но с Ядвигой не поспоришь. Честное слово, вот бы посмотреть на того, кто на ее просьбу сможет ответить отказом. На меня она взглянула всего один раз — на самом финише произносимой тирады. И желание возразить или хотя бы задать какие-то встречные вопросы мгновенно улетучилось. Ну и ладно. Все одно мне хотелось побыстрее — хотя бы на полдня — свалить из этого дома. Да и в редакции появиться было бы и впрямь неплохо.
В машине мы молчали. Стас, растерявший вдруг все свое немногословное дружелюбие, мрачный, как три гробовщика, ни на мгновение не отрывался от дороги, Ольга сидела какая-то пришибленная, а мне, признаться, было не до ее душевных переживаний. Произнесенное — пусть и молча — слово «убийство» вывело меня из почти двухнедельной заторможенности и дико разозлило.
Убивать — нельзя. Грешно, табу, что хотите, но — нельзя. Нехорошо.
Читать дальше