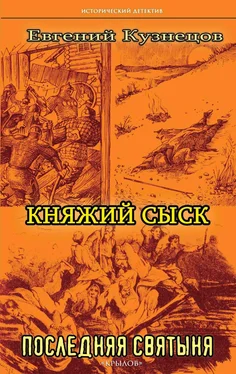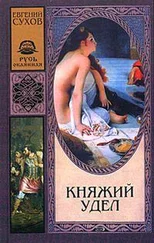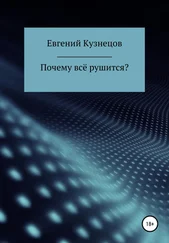Бояре и ближники, оглушённые Самохваловой вестью, потерянно сидели по лавкам, чесали в бородах. Эк как оно привалило: раньше чем к Сретенью ордынцев и не ждали, а они, поди же ты — под самым носом объявились. В потёмках дворца вытянутые лица придворных создавали впечатление, что происходит тайное сборище упырей. Пришаркал служка-сытник с охапкой свечей, запалил их в общем молчании и ушёл. Сразу стало душновато, зарябило в глазах от цветастых кафтанов дорогой камки и шёлка.
— Ну, ненаглядные мои советнички, — в голосе великого князя разливалась ядовитая горечь, — дождались. Кто у нас тут уверял, что татар морозы испугают? Ты, Булай? Или это ты, Еремей Алпатьевич?
— А чё я-то? — старший боярин выпростал руку из бороды, ткнул пальцем в окольничего. — Булай за разведку отвечает. Он и обмишулился.
— А ты тогда скажи, кто за переговоры с новгородцами в ответе? И когда нам от них слова ждать?
— На следующей неделе грамоту должны привезти…
— И что в той грамоте?
— Верный человек мне весть подал: отказывают новгородцы.
— Что ж ты молчал до сей поры об этом?
— Так буквально вчера гонец прискакал, вот сёдня и говорю.
К вольному городу Новгороду великий князь воззвал среди всех прочих малых и больших княжеств расколотой Руси. Сначала, пока была какая-то надежда, правда, весьма призрачная, что вдруг взыграет русский дух и к сопротивляющейся Твери присоединятся остальные, Александр Михайлович о бегстве помышлять не торопился. Потом стало ясно, что понюхать ордынский кулак желающих нет, а напротив, уйма татарских доброхотов ждёт не дождётся, когда настанет время тащить тверское добро по своим норам. Великий князь (впрочем, какой великий: Александру уже доставили ханскую грамоту, в коей Узбек низлагал его с владимирского великого княжения) обратился к Новгороду с просьбой об убежище. Новгородская старшина, подумав для приличия пару недель, отказала. Оставались еще Псков и Литва.
— Всё, — порешил князь, — отъезжаем в Торжок. Там станем ждать известий из Пскова.
Бояре шумно стали расходиться.
— А ты, — обратился Александр к Самохвалу, которого по причине общей неразберихи забыли выкинуть из палаты и он впервые в жизни удостоился побывать в сонме ближайших князевых советников, — при мне будешь. Сохранность личных имуществ на тебя возложу…
Только доски навощенного пола сдержали глубину благодарственного Самохваловского поклона. «При сундуках… при сундуках!» — глупо-радостно плескалось в гудящей голове бывшего опального следователя, взлетевшего на три ступени по службе.
Это кто же спускается там по красной лестнице? Не дознаватель ли Самохвал идёт? Какой такой дознаватель?!! Не видишь — младший стряпчий Степан Игнатьевич шествуют…
* * *
…Вот она, рукопись. Она лежит на столе перед Одинцом, желтея в свете свечи согнутыми от долгого лежания в свёртке пергаментным полотном. Последний дар Битой Щеки, упокой, Господи, душу его. Длинный пергамент из подшитых друг к другу листов намотан на толстую палку, вроде скалки, какой бабы раскатывают тесто. Всё это вкладывается в соразмерную палке трубу с притёртой по горлышку узорчатой деревянной пробкой. Так внутрь не попадёт никакая влага. Сама труба из золочёного серебра. А на ней, в овальных оконцах — три золотых же грифона. Да и на пробке вроде ручки приделаны два изумительно вырезанных из кости пардуса-леопарда, вцепившихся друг в друга передними лапами в яростном объятии. Тонкая работа, что сказать…
Александр снова покрутил скалку, распуская ленту пергамента. Вчитался. Да-а, в греческом он не силён… Остатки Нифонтовского обучения позволяли только предположительно уловить, что речь в этих древних писаниях идёт о землях полян, древлян и прочих обитателях земли, что в его время зовётся Русью. Мелькали на страницах незнакомые названия, незнакомые имена: каган Друз, каган Хорив… чёрт их знает кто такие. К последним листам дело, правда, шло веселее — каган Аскольд, каган Дир. Хоть что-то знакомое. Одинец свернул рукопись, перед тем как снова втиснуть в футляр и убрать в мешок, зачем-то понюхал. Пахло, естественно, мышами. Сокровище…
В светёлку, что ныне отвёл Самохвал для Александра на втором ярусе дома, не скрипнув ни единой половицей, просочился Парфён. Запахло сивухой и чесноком, но на вид он был трезвей трезвого.
— Заснули, — сообщил холоп.
Одинец ещё раз подивился способности этого мужика разговаривать, почти не шевеля губами. Парфён был ещё и расторопен. А после чудесного бегства из Яскино, его спорота в выполнении Сашкиных просьб увеличилась троекратно. В глаза, правда, не смотрел, виноватился. Самохвал тоже в отношениях с Одинцом опростел, поубрал спеси. Выделил для гостя едва ли не лучшие покои в доме, с высоченной кроватью под пологом из полупрозрачной льняной реднинки (от мух, хотя какие в январе мухи). Александр оценил это своеобразное извинение: так надоело за последние полгода спать по-походному. На брюхо лёг, спиной прикрылся. Хоть ночку-другую поспать как люди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу