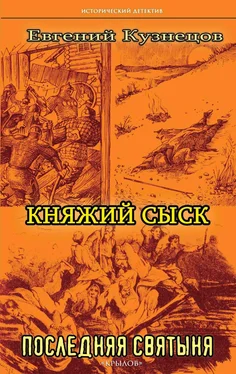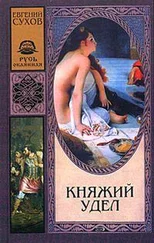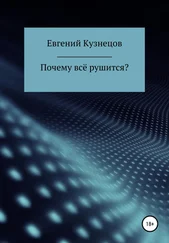* * *
Откуда-то из глубокой синей мглы выплыл татарин на мохнатой чалой лошаденке. Татарин сидел на незасёдланной лошади как на ковре, согнув ноги калачиком. В одной руке он держал пиалу из которой при каждом подскоке лошади венчиком взлетало молоко. Татарин ловил брызги ртом и глотал, улыбаясь. Второй рукой он натягивал огромный роговой лук, и Одинцу было непонятно, как это можно одной рукой и держать лук, и натягивать тетиву. Татарину это было по плечу, и он, сделав улыбку еще гаже, послал стрелу. Одинец слышал певучий звук колеблющейся тетивы, тоненький посвист летевшей стрелы. Стрела ударила ему в висок и отскочила. Облетев вокруг, она снова ударила уже в другой висок. «Видать, тупая, — подумал Одинец. — А больно дерется». И он принялся отмахиваться от назойливой стрелы как от овода. Тогда татарин, который подскакал совсем близко, нахмурился и сказал: «Слюшай, урус, зачем моя стрелка больно делаешь, обижаешь? Что она тебе — мух?». — «Это вовсе мне больно, а не ей», — тоже обиделся Одинец. Но татарин решил обидеться больше, гораздо больше, чем Одинец, и, чтобы показать, как он совсем-совсем сильно обиделся, стал плескать в лицо Одинцу молоко из пиалы. «Ну, мокро же!» — сказал Одинец. И татарин, смутившись, извинился и принялся промакивать влагу оторванным от халата рукавом. Он теперь был не верхом, а висел в воздухе, всё так же поджав под себя ноги. И за его плечами Одинец увидел два больших белых как у лебедя крыла. «Ты — ангел?» — удивился Одинец. «Ага, — утвердительно кивнул татарин, — архистратиг Михаил в воинство небесное зачислил, служу вот…» — «Разве ты христианской веры?» — «А там и не разбирают, кто какой, всех под одну гребёнку гребут…»
— Всех под одну гребёнку… — услышал Одинец, очнувшись, обрывок тихого разговора. На его лицо, вылетая из непроглядной тьмы сверху, падали крупные капли. По невидимой крыше мерно барабанил дождь. Мозжило раны, ломило в висках; Одинец чуть отодвинулся, чтобы просачивающаяся через худую кровлю капель пошла мимо, и едва не застонал: боль раскалённым обручем охватила голову. Он затих, ожидая, когда она отступит.
Позавчера его доставили на дружинный двор полуживым. Дьяк, принимавший арестантов, которых толпами пригоняли отовсюду, предпочел не тратить время на едва державшегося на ногах Александра: «Тащите в сарай, пусть отлежится».
Теперь, к исходу второй ночи, Одинцу полегчало. Если не шевелиться, боль почти затихала. Настоящей пыткой были только походы к устроенной в углу сарая уборной. Кроме Одинца в сарае задержались ещё несколько человек, большую часть допрошенного народа отпускали по домам. Власти вели следствие по делу о восстании. О том же вели речь и невидимые Александру в темноте собеседники:
— Тысяцкого-то князь указал на глаза не пущать, сильно сердчает на него. На Щетнёвых опалу наложил, так они уехали в свою вотчину и носу не кажут. Слышал, будто слезную челобитную прислали, мол, прости, государь, за твое спасенье бились, как лучше хотели…
— Да-а, наломали мы дров! Как оно все аукнется? Что теперь в Орде Азбяк порешит?
— А вот всех и порешит! Одно слово: ели, пили, веселились, подсчитали — прослезились…
В разговор включился третий голос:
— Вроде как зачинщиков драки ищут. Но и тех хватают, кто попутно у некоторых бояр дворы разнес, да ордынских купцов побил!
— Говорят, ни одного живым из города не выпустили.
— А че их в дёсна целовать, что ли?
— Они что ж, разве виноваты? Это все Щелкан согрубил народу.
— А то не виноваты! Ты жалостливый больно. А я вот хари эти на дух переносить не могу. Все зло от них. Ничо! Я-то повеселился: там у нас на Торговой улице семейка проживала, старшая девка у них лет семнадцати, чернявая… когда её отца, сволочь жирную, на воротах повесили, она пислявенько все выла-причитала, а как поняла зачем её в дровяник потащили, так не поверишь, обмочилась, ну будто ведро в ей было!
— А потом?
— Потом суп с котом. Прирезали сучонку…
Эх, встать бы, дать в морду, да сил нет. Веки Одинца сами собой смежились, явь начала путаться с забытьем. Он снова оказался на том пятачке торговых рядов, где их, отбивавшихся от ордынцев, застало вступление в бой вооружившегося веча и княжеской дружины. И хотя сражение и после того длилось еще много часов, в его памяти удержалось немногое…
…Какая-то улица, по которой он бредёт, пытаясь вывернуть на тот тупик, где стоит заезжий двор. Разбитые ворота домов, выдранные рамы окон, снятые с петель двери, поваленные прясла вытоптанных палисадников; по воздуху серой метелью кружит пух вспоротых подушек и перин, он покрывает лужи, набивается каймой вдоль обочинной травки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу