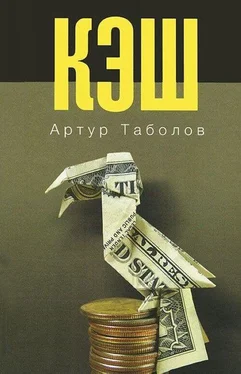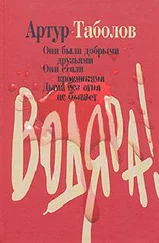— За то, что похвалил Эрнст Неизвестный?
— Да нет, за пьянку.
— А потом?
— Потом пошла жизнь. Нужно было кормить семью. Так и стал камнерезом.
— Семья сохранилась?
— Куда-то исчезла, ничего про неё не знаю. А ты, мужик, кто? Повадка у тебя ментовская.
— Нет, я не из милиции. Я сам по себе. Один человек рассказал мне, что вы разговаривали на могиле Гольцова с живым Гольцовым. Было такое?
— Ну да, было. А что?
— Я хотел бы кое-что уточнить. Посмотрите на эти снимки.
Панкратов убрал со стола пустые бутылки и выложил штук тридцать фотографий. Накануне он полдня просидел за компьютером, скачивая из Сети снимки самых разных людей, близких по возрасту, лет по пятьдесят, и печатая их на цветном лазерном принтере. Среди них была только одна сканированная фотография Гольцова — из папки, которую передал ему Михеев. Снимок был сделан, вероятно, сразу после выхода Гольцова из лагеря — в казенной одежде, с настороженным выражением лица.
— Вы кого-нибудь узнаете из этих людей?
Фрол скользнул взглядом по снимкам и сразу ткнул в Гольцова:
— Он. Такой он и был, когда я с ним разговаривал.
— Спасибо, вы мне очень помогли. Я был сегодня на Ваганьковском кладбище, видел вашу работу. Я небольшой знаток, но она произвела на меня сильное впечатление.
— Ничего получилось, — как-то равнодушно воспринял комплимент Фрол. — Я вот еще немного пообщаюсь с Богом… Вот, всего пол ящика «Ермака» осталось, — уточнил он, заглянув под стол. — Оклемаюсь и кое-что сделаю. Вот это будет нечто.
— Тоже надгробье?
— Мой жанр.
— Чье?
— Неважно. Важно что. Вот как это будет называться — судьба. Страшное это дело, судьба. Никогда не думал об этом?
— Страшное чем? — не понял Панкратов.
— Тем, что она конечна. Всегда. Черточка между рождением и смертью. И всё. Второй черточки никогда не бывает.
Фрол щелкнул у стены рубильником, середина бокса осветилась сильными лампами. Это была мастерская камнереза. Длинный самодельный стол с аккуратно разложенными инструментами, блоки то ли глины, то ли пластилина в целлофане. На невысоких козлах из толстых брусьях возвышалось что-то, накрытое мешковиной.
— Получили заказ? — поинтересовался Панкратов. — От кого?
— А хрен его знает. Приехал какой-то малый на этом, сквотере, скрутере? Никак не запомню.
— Скутере? — подсказал Панкратов.
— Ну да, на такой желтой перделке. Чернявый, вроде кавказца. Дал фотки и аванс. А больше мне ничего и не надо.
Фрол снял мешковину с того, что было на козлах. Под светом ламп заискрилась на сколах бесформенная глыба какого-то черного камня. Камнерез провел по ней руками, то ли оглаживая её, то ли ощупывая.
— Я уже знаю, что буду делать. Даже в руках зудит. Но еще рано, еще немного рано.
— Это гранит? — спросит Панкратов.
— Габро. Научно говоря, габродиабаз. Из Карелии. Живой камень. Душа в нем есть, только ее нужно почувствовать.
— И все-таки — кто это будет?
— Фотки там, на столе, в папке, — отозвался камнерез, бережно укутывая мешковиной камень.
В папке была пачка цветных снимков. И со всех снимков смотрел на Панкратова генеральный директор ЗАО «Росинвест» Олег Николаевич Михеев.
Вернувшись на Беговую, Панкратов долго сидел в машине, задумчиво барабаня пальцами по рулю. Потом завел двигатель и выехал на Ленинградский проспект. Он уже знал, куда едет: в Тверь, в детский дом № 24, где десять лет прожил Георгий Гольцов, осиротевший после того, как его отца застрелили на площади в Новочеркасске 2 июня 1962 года, а его дядю на 12 лет отправили в «Устимлаг».
Глава третья
РАССТРЕЛ НА ПЛОЩАДИ
«Утром 2 июня 1962 года к воротам Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного начал стекаться рабочий люд. Но по цехам не расходились. Завод стоял. Застыли станки в механических цехах, по литейке не проплывали ковши с расплавленным металлом, на сборке не суетились слесаря возле остовов электровозов. А толпа все росла — хмурая, молчаливая, как бы накапливающая в себе энергию действия. Никто не знал, что этот день войдет в историю России, как вошло «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, но все знали, что в этот день что-то произойдет.
К девяти часам у проходной собралось все взрослое население поселка Буденовский, все четырнадцать тысяч рабочих электровозостроительного завода. Пришли жены рабочих, принаряженные, как на праздник, набежала вездесущая ребятня. Какой-то малости не хватало, чтобы энергия толпы превратилась в действие. Эта малость явилась в виде плаката, написанного на простыне заводским художником Коротеевым: «Мясо, масло, повышение зарплаты!» (За этот плакат он позже получил двенадцать лет колонии строгого режима.) По толпе пронеслось: «Пошли!» Не нужно было говорить куда, все и так знали: в центр города, к Атаманскому дворцу, где помещались горком партии и горисполком. «Мы им всё скажем!» Многотысячная толпа двинулась в путь, заполняя собой широкую, как выгон, улицу. Несли портреты Ленина из старых запасов заводского профкома, несли свежие лозунги, заготовленные к несостоявшемуся празднику освобожденного труда: «Да здравствует освобожденный труд!»
Читать дальше