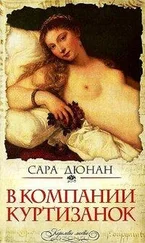Я сижу на церковной скамье почти до начала богослужения, а потом тихонько выхожу. Отсюда мне не услышать колокола Марангоны, к тому же в таком тумане путь в гетто будет долгим.
Похолодало, и я иду быстрым шагом, чтобы приободрить себя и согреться. Я иду сквозь опустившийся на город мглистый покров и чувствую, как внутри у меня нарастает тревога. Если еврей сумел раскусить секрет замка и внутри книга оказалась столь же прекрасной, что и снаружи, тогда конечно же я найду коллекционера, который заплатит за нее если не цену рубина, то, по крайней мере, достаточную сумму, и на эти деньги можно будет нанять лодку на несколько дней. А если нет… что ж, если нет… об этом я предпочитаю сейчас не думать…
Он стоит у двери лавки, всматриваясь во тьму, словно уже давно ждет.
— Простите, — говорю я, — туман очень густой. Я с трудом нашел дорогу.
Я думал, он впустит меня внутрь, но он не двигается с места, и лицо его кажется серым, как туман.
— Уже поздно. Мне нужно немедленно закрываться.
— Вы открыли замок?
Он смотрит на меня, но я не вижу его глаз. Он берет из лавки, со стола, какой-то сверток, обернутый тканью.
— Я записал код замка на клочке бумаги, он там, внутри, — говорит он и сует мне сверток, озираясь по сторонам, словно опасаясь, что нас могут увидеть вместе.
— Благодарю. Сколько?.. То есть…
— Не приходите сюда больше. — Теперь его голос звучит сердито. — Вы меня поняли?
— В чем дело? Что случилось?
— Закон запрещает нам брать книги у христиан.
— Знаю, — говорю я, — но…
— Не приходите сюда больше. Я не буду иметь с вами дела. — Он уже запирает дверь. Я поднимаю руку, чтобы удержать его, но он оказывается сильнее меня. — Отныне этот дом закрыт для вас.
Дверь захлопывается у меня перед носом.
Я ничего не понимаю, от возмущения у меня горит лицо. Я стучу кулаком в деревянную дверь. Проклятый жид! С чего он вдруг взял, что имеет право что-то запрещать мне? Правда, его выходка совсем подорвала мои силы. Я пытаюсь развернуть книгу. Ткань разворачивается, оттуда вылетает бумажка и, покружившись в воздухе, падает в канаву. Я хватаю листок и отчаянно всматриваюсь в темноту. На бумажке написаны четыре цифры. 1 5 2 6? Да, 1526.1526. Теперь я запомнил. Мну листок и запихиваю его в карман. Но здесь, сейчас, я не сумею открыть замок.
В такое ненастье мне долго придется добираться до дома. Я спешу покинуть гетто, пока не заперли ворота, и возвращаюсь привычным путем к ближайшему кампо . Слева от него каменный мостик, недавно заново отстроенный. Я его не вижу, но точно знаю, что он там. На углу висит фонарь — он тоже новый, как и мост, им гордятся и каждый вечер с наступлением темноты зажигают. В ясную погоду фонарь освещает тротуары по обеим сторонам канала. Я дохожу до середины моста и только тогда различаю его слабое свечение, но, если встать прямо под фонарем, я смогу хотя бы разглядеть цифры. Пальцы у меня онемели от холода, к тому же они слишком короткие, и мне неудобно держать барабан и еще управиться с цифрами. 1 5 2 6.
Я слышу, как что-то внутри щелкает, и в тот миг, когда замок открывается, мне неожиданно приходит в голову, что это сочетание цифр — не просто случайный ряд, но еще и дата, и задаюсь вопросом: что же такое произошло в тот год, чтобы Асканио именно его выбрал ключом?
И в то же мгновенье, сняв замок и раскрыв книгу, я все понимаю.
Разумеется, я видел их раньше. Из тех, кто занят таким делом, как мы, почти все видели их хоть раз, хоть мельком. Впрочем, своего экземпляра у нас не было: они быстро переходили из одних богатых рук в другие, а когда вышел закон, то мгновенно исчезли, словно тараканы, забившиеся под камень. Папский цензор, кардинал Джиберти, и его подручные хорошо поработали. Ходили слухи, будто он сложил костер во дворе Ватикана и сжег их, как тридцать лет назад Савонарола жег во Флоренции предметы роскоши. Не прошло и года после запрета, но во всем Риме было уже не сыскать ни экземпляра. Во всяком случае, я не слышал ни об одном.
Позже появились чьи-то гравюры на дереве, копировавшие их, но четкие линии рисунка Романо при этом размылись, его штриховка загрязнилась, и стало трудно разобрать, что же в действительности изображено. Но оригинальные гравюры были ясны, как утренний свет, ибо рука Маркантонио Рай-монди, гравера по медным доскам, славилась по всему городу своей твердостью. А если он был лучшим римским гравером, то Джулио Романо был лучшим римским рисовальщиком, ибо, хоть ему и недоставало легкости и обаяния его учителя Рафаэля, человеческое тело он постиг в совершенстве, словно исследовал каждый мускул изнутри, а позы, в которых он изображал свои фигуры, свидетельствовали и о нашей страсти к живописной драме, и о его собственном веселом умении выкручивать человеческое тело и изучать его формы.
Читать дальше