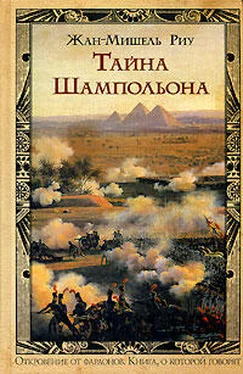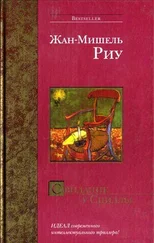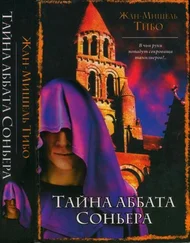— Как можно быстрее.
— Очень разумно. Много чего еще осталось рассказать о Египте, ведь столько времени прошло. Двадцать лет! Отдаешь ли ты себе в этом отчет?..
— Морган остановился на нашем последнем ужине в столовой Института. Я помню, словно это было вчера…
— Хорошо было бы, чтобы ты с этого момента и продолжил.
Фарос был прав: тогда, в Египте, приключение продолжалось.
ГЛАВА 10
НО ЧТО ПОВЕДАЛ РОЗЕТТСКИЙ КАМЕНЬ?
Но что поведал РОЗЕТТСКИЙ камень? В Каире ученые Института думали только о том, как решить загадку. В салоне гарема Хассана Кашефа, в комиссиях, которые продолжали собираться и работать, на совместных ужинах наиглавнейшей темой для разговоров был теперь не отъезд Бонапарта, а расшифровка надписей.
Вопрос был чрезвычайным — этим главным образом и объяснялось наше коллективное увлечение. Расшифровать Розеттский камень означало раскрыть тайны цивилизации столь странной, что она, казалось, принадлежит совершенно другому миру.
Соберите ученых в одной закрытой комнате. Подождите, пока они начнут жаловаться, и сообщите им о необходимости решить некую загадку. Добавьте, что она неразрешима, а выход из комнаты возможен лишь через окно, только его не существует. И ученые забудут голод, жажду и даже свои разногласия, дабы вместе потратить на разгадку все силы до полного их истощения.
Какой ученый не мечтал поучаствовать в фантастическом открытии? Нам представился столь редкий шанс. Он был перед нами, и все хотели стать частью истории, которая писалась прямо на наших глазах.
И вот уже в стороне и чума, и английская угроза с моря, и мамелюкские войска, и восстания, угрожавшие Каиру. Розеттский камень представлял собой цель, какая извечно привлекает специалистов. Тут оказались необходимы все науки от арифметики до истории искусства, не исключая геометрии.
Даже химия могла прийти на помощь. Тема, таким образом, объединила всех, вне зависимости от иерархии. Представителям каждой дисциплины нашлось, что сказать.
Кроме того, ученые погружались в поиски, дабы забыть о настоящем: о «бегстве» Бонапарта. Самые противоречивые мнения высказывались о главнокомандующем. Я относился к самым яростным его критикам, но не мог отрицать его харизму и влияние. После его отъезда нечто вроде уныния обрушилось на нас. Несмотря на его молодость (ему не исполнилось и тридцати), многие чувствовали себя так, словно их бросил родной отец. Жестокий, несправедливый, проклятый для одних; ласковый и незаменимый защитник для других. Но для всех он был отцом.
Фарос был вдвойне печален. Он не любил Бонапарта, однако сожалел о нем. Но главным образом он оплакивал отъезд Моргана де Спага. Что касается меня, то со временем внезапный распад нашего трио давил на меня все больше. Отъезд Моргана показал мне, до какой степени мы стали близки.
Что касается Бонапарта, искренность обязывает меня уточнить, что к этому генералу я испытывал весьма противоречивые чувства. Иногда он привлекал меня, иногда я делал все, чтобы от него отстраниться. Морган не ошибался, когда писал, что я сомневался больше в себе, чем в нем. Я не хотел стать жертвой его обаяния, попасть в рабство, как я нередко говорил гражданину Спагу… Этот милосердный друг выслушивал мою критику с улыбкой. Его душа была терпима; моя — намного меньше.
Скромная среда, из которой я происходил, и тот факт, что я в шесть лет стал сиротой, сформировали мое недоверие к сильным мира сего. Я родился при монархии, но отказывался думать, будто заслуги человека зависят от его происхождения и титулов. Я отрицал идею привилегий, по при этом не ценил и власть, завоеванную силой оружия, которой пользовался и злоупотреблял Бонапарт. Полагаю, мне просто не нравилось любое людское неравенство.
Я страдал от своего положения бедняка, которое закрывало передо мной лучшие школы. Моим единственным славным титулом (моей привилегией!) было оригинальное имя Орфей.
Моя бедная мать рассказывала, что ей нашептал его ангел, спустившийся с небес, дабы благословить ребенка, такого разумного и милого. Таково единственное приятное воспоминание, которое я о ней сохранил. После матушкиной смерти я поступил в школу монахов-бенедиктинцев, чтобы изучать там математику; оказалось, что я не обделен задатками. Из этого я заключил, что Природа важнее Удачи.
В монашеском ордене я также получил уроки аскетизма, которые стал применять ко всему, в том числе и к разуму… когда от меня этого не особо и требовали… Я стал послушником и вполне мог бы посвятить себя религии. Я готовил себя либо к профессии учителя, либо к судьбе честного кюре, безупречного духовного лица, журящего свою паству на латыни и обходящего окрестные деревни. Возможно, из меня вышел бы превосходный проповедник — если бы меня звали, допустим, Пьером или Жаном…
Читать дальше