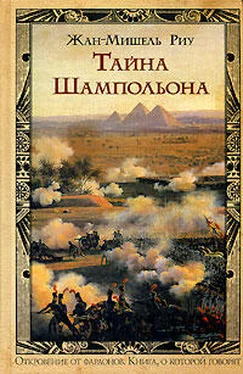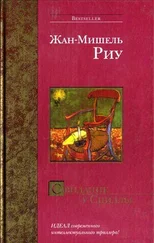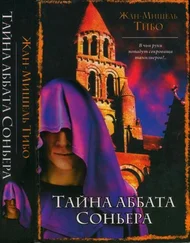* * *
Накануне смерти Моргана я получил от него письмо. Я работал в Париже над аналитической теорией тепла, результаты которой надеялся вскоре представить коллегам по Академии наук, если тайна расшифровки оставит мне на это время. Я узнал восковую печать Моргана и его почерк, тонкий и элегантный, которым было выведено мое имя: Орфей Форжюри.
Толщина конверта меня встревожила. Я догадался о его содержании. Смерть Моргана — единственная причина, которая могла объяснить то, что вручала мне судьба.
Он умер, и я не успел увидеться с ним. Наша последняя встреча имела место три дня тому назад. Я пришел к нему домой, ибо он не вставал уже несколько длинных недель. Прежде мне часто приходилось бывать на пороге его дома в парке Монсо. Слуги, открывшие мне, сказали, даже не спросив хозяина, что господин де Спаг больше не принимает. Я попросил позвать Гортензию. Она вышла ко мне, бледная и полная достоинства, но глаза ее покраснели от горя. На ней было темно-сиреневое платье, а седые волосы были стянуты в узел, что лишь подчеркивало благородство лица. Несмотря на все испытания, Гортензия де Спаг совсем не изменилась.
Мы с Фаросом познакомились с ней в день нашего возвращения в Париж, 25 октября 1801 года. Но прежде Морган, вернувшийся во Францию два года назад, отправился в Тулон.
Мы сошли с борта «Amico Sincero», совершив ужасное путешествие. Мы оставили Египет, но приключение нас не отпускало. Нас терзали такие бури, какие возможны только в Средиземном море. В первой четверти ночи, когда моряк вставал за штурвал, небо было звездным, а море спокойным.
Однако через час поднимался резкий ветер. Он дул с севера, поднимая волны, бившие в борт корабля. Моряки залезали на мачты, чтобы свернуть паруса. Их крики перекрывали грохот ветра и ломающихся ящиков, сваленных на палубе.
Десять человек лезли наверх. Лишь трое спускались живыми. Прочие погибали. Исчезали в море. Нам, похоже, было предначертано пережить новые испытания. Морган де Спаг приехал к нам навстречу. Он уже три дня ждал нас в здании Морского министерства, где находился Бонапарт перед отправлением экспедиции. Пренебрегая карантином, который изолировал нас от мира, он предстал перед «Amico Sincere» и потребовал перебросить ему мостик с палубы до набережной. Потом бросился на корабль и, выкрикивая наши имена, сжал нас в объятиях, вовлекая наше трио в импровизированный танец, больше похожий на прыжки на месте.
— Пожалей нас! Морган! — кричал Фарос. — Ты раздавишь мне все кости. Я пережил всю эту Одиссею не для того, чтобы задохнуться в объятиях друга!
Счастливый Морган никак не мог успокоиться. Однако, присмотревшись, я нашел, что он сильно похудел.
— Горячка мучает по-прежнему? — спросил я, имея в виду его болезнь, полученную под Сен-Жан-д'Акром.
— Один ваш вид отодвигает на второй план все эти проблемы. Тут лишь возраст виноват, — возразил он, но не сумел сдержать приступа кашля.
На миг он отвернулся. Когда он снова посмотрел на нас, лицо его было бледно. Впрочем, он тут же прыгнул на меня, чтобы вновь сжать в объятиях.
— Я вижу по вашим физиономиям, что вы соскучились по доброму парижскому воздуху. Влажному и холодному. А наши скользкие от грязи мостовые, а наш угольный дым, забивающий легкие и нос, а наша зябкая осень! Дома холодно, постель влажная. Днем моросит; ночью фиакры на ощупь движутся в тумане, а деревья Ботанического сада стоят почти без листьев. Чувствуете ли вы себя в форме, чтобы немедленно выйти навстречу этому новому испытанию?
— Карантин, Морган… Мы заперты здесь. Говорят, нас повезут в Марсель…
— Все уже решено! Хорошо быть близким к Первому консулу… — Он бросил на меня игривый взгляд. — Не надо беспокоиться. Мой экипаж там. Четыре прекрасные лошади уже бьют копытами. В дорогу! Сегодня вечером мы будем спать в Эксе, где я знаю одну гостиницу — ее омлеты и вино не нуждаются в дополнительных рекомендациях.
— А хлеб? — облизнулся Фарос.
— И курочки, молодые петушки, рагу, супы, овощи, сыры, Фарос! Все для тебя…
— А наши вещи, что будет с ними?
— Максимилиан этим займется.
Морган повернулся к высокому сухому человеку, одетому во все черное; то был Максимилиан, его бесценный камердинер.
Поездка стала одним большим приятным воспоминанием. Семь дней, пока мы ехали до Парижа, мы вряд ли молчали хотя бы минуту.
— Что нового во Франции в октябре 1801 года? — спросил Фарос.
— Расскажи нам вначале о 18 брюмера, — добавил я. — Итак, Бонапарт повел себя как тиран?
Читать дальше