Самоубийство – ужасный грех, как сказал мне Шекспир. Оскорбление Бога и человека. Мы выказываем свой ужас перед ним, хороня самоубийц ночью вблизи общественных трактов. Если для странствующего ветерана или разорившегося лавочника этого вполне достаточно, почтенному человеку вроде Хью Ферна такое погребение не подобает. Раз уж влияние его друзей смогло изменить вердикт в пользу «несчастного случая», а не намерения и тем отвести тень от семьи покойного, равно как и гарантировать Ферну достойные похороны, тут уж никто не мог по-настоящему возражать.
Другая возможность – возможность убийства – казалась еще менее вероятной, чем самоубийство. Не думаю, что она даже рассматривалась кем бы то ни было, кроме двух актеров с чрезмерно богатым воображением и уймой свободного времени.
Похороны Хью Ферна и вправду получились достойными. Их устроили спустя три дня после того, как обнаружили его труп. Шекспир, Бербедж и кое-кто еще из старших присутствовали на отпевании в церкви Св. Марии. Шекспир сам сочинил речь, как мне сказали.
Казалось, делу конец. К тому же у коронера и судей были другие, не терпевшие отлагательства дела, помимо несколько загадочной смерти местного лекаря.
Чума теперь прочно обосновалась в городе. Невозможно было больше делать вид, что она ограничится горсткой смертей на окраинах. Как я уже говорил, мы, лондонцы, принимали ее сдержанно, почти спокойно – или делали вид, что принимаем так. Но здешние горожане нервничали. Потасовка, которую мы наблюдали вместе со Сьюзен Констант, показала, как город и университет любят таскать друг дружку за волосы, но еще она показала, насколько обидчивы и угрюмы эти люди. Они были деревом, готовым загореться от любой искры.
Я наблюдал одну из таких искр, попавшую на сухое дерево.
Карфакс для Оксфорда – практически то же, что пространство возле паперти собора Св. Павла в Лондоне, место, где все собираются сплетничать и вести торговлю, законную или незаконную. Естественным образом создаются толпы, привлеченные чем-то или ничем.
Был вечер. Дни теперь становились длиннее. Солнце, опускавшееся за башню Св. Мартина, зажгло на небе огонь. У подножия церковной башни мужчина производил на толпу такое же действие. Он стоял на заднике безлошадной повозки и размахивал руками. Голос его был неожиданно громок для такого приземистого человека. Я издалека слышал его рокочущие тона, хотя и не мог различить слова. Я подошел ближе и услышал, что он произносит с таким пафосом. О да! Вообще это не было для меня сюрпризом. Я ожидал чего-нибудь вроде этого.
Чума приносит пророков с таким же постоянством, как собака блох. Это в основном мнимые пророки, твердящие нам, что все мы обречены. Я знаю это племя, потому что мой отец был одним из них, – хотя он-то был настоящим проповедником, не каким-нибудь самозванцем, – и поэтому я, возможно, способен успешно сопротивляться наиболее худшим их разглагольствованиям.
Этот человек не слишком отличался от тех, что я видел раньше. Его речи были громки и напыщенны. Он указал на списки, которые были прикреплены к дверям церкви Св. Мартина. Ему не нужно было объяснять, что это было такое. Всякий страшился появления чумных указаний и списков умерших, которые высыпали на улицах, как белые пустулы на здоровой коже.
Затем оратор приступил к делу. Чума была орудием Бога для наказания греха, вещал он. Это ангел Божий – или стрела его, пролетевшая по воздуху, – или его рука, вытянувшаяся, чтобы поразить людские пороки, – или все это вместе, и даже больше. Караются грех и порок. Самый воздух, который мы вдыхаем, заражен человеческой развращенностью и тем укореняет нас в нашей испорченности.
Толпа, в основном состоявшая из горожан, среди которых я, впрочем, заметил и нескольких студентов, собралась в мгновение ока. Кое-кто из них поднял голову при последнем замечании и втянул носом воздух, сизоватый от печного дыма. Они, казалось, наслаждались грядущей карой и уничтожением. Естественно, это было не так, но в таких ситуациях присутствует некий первородный трепет, бросающий нас в дрожь, – я это уже заметил, когда мы с Абелем проходили мимо чумного дома на Кентиш-стрит в Саутворке.
Если бы человек на повозке ограничился общими порицаниями и угрозами, все бы еще ничего. Но ему требовалось найти что-то или кого-то, на кого можно было свалить вину за чуму. Возможно, это было единственным поводом для его тирады, ибо, когда он перешел к следующему пункту своего обличения, голос его стал еще суровее, а жесты – еще выразительнее.
Читать дальше

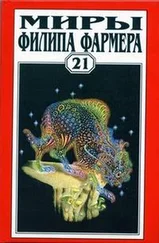

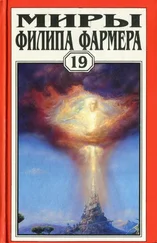





![Николай Метельский - Новый враг - Удерживая маску. Срывая маски. Маска зверя [сборник litres]](/books/431929/nikolaj-metelskij-novyj-vrag-uderzhivaya-masku-sr-thumb.webp)


