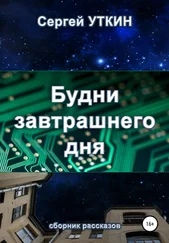Казнь первой партии жирондистов состоялась 31 октября 1793 года. За ней последовала казнь герцога Орлеанского — 7 ноября. На следующий день на эшафоте оказалась мадам Ролан, которая воскликнула, подняв голову к небу:
— О, Свобода, сколько же преступлений совершено ради тебя!
Прокатилась новая волна казней в Марселе и Лионе.
В Тулоне маленький корсиканец начал вершить собственное правосудие. Некогда папаша Дюшен предсказал появление Наполеона: «Снова случится то, что всегда случалось: один из военачальников, более проворный, чем все остальные, двуличный тип, начнет льстить армии и народу и постепенно ввергнет их в самое постыдное рабство, а они даже ничего не заподозрят. Именно так действовали многие правители».
Вандейцы отступили к Гранвиллю, снова пошли в наступление, снова отступили. Франция была охвачена войной со всех сторон. В речах папаши Дюшена теперь звучал некий отголосок сомнений, овладевших санкюлотами, относительно стратегии изо всех сил свирепствующего Террора:
«„Ты говоришь только о том, чтобы душить, убивать, казнить, резать, — упрекают меня газетчики, — ты чересчур кровожаден, презренный торговец печными трубами! Разве мало уже пролилось крови?“
Нет, даже слишком много — но по чьей вине? По вашей вине, проклятые сони, — это вы остановили карающую руку народа, когда он уже готовился нанести удар».
В разгар этой бойни все же нашлось время переименовать Нотр-Дам в храм Богини Разума. Все остальные парижские храмы были закрыты. Из Пантеона вынесли прах Мирабо и выбросили его в сточную канаву.
Тем временем чета Симон продолжала свою работу по «перевоспитанию» Людовика XVII. Теперь Эбер хотел, чтобы ребенок обвинил свою тетку Элизабет. Он работал над этим обвинением, тщательно собирая доказательства; он заставил дофина подписать новые разоблачительные показания: якобы Элизабет фабриковала вместе с королевой фальшивые ассигнации в период заключения в Тампле. Этот бред не заслуживал бы того, чтобы о нем упоминать, если бы не был подписан дрожащей рукой Людовика Капета: мало того, что одна буква в имени была пропущена, а другая нацарапана кое-как, но и все остальные разъезжались в разные стороны. Неужели ребенок забыл все уроки чистописания всего за три месяца? Или он был пьян? Может быть, он уже наполовину ослеп?
Во всяком случае, Симон больше не мог сидеть в Тампле, сложа руки и лишь пассивно наблюдая за тем, как медленно угасает его воспитанник. Башмачника уже ничего не развлекало — ни карты, ни шашки. Он даже больше не возмущался. Все его педагогические меры заключались лишь в том, что изредка он поколачивал принца, чтобы привить тому «республиканские манеры». Тогда Симон еще чувствовал себя полезным. Но его подопечный уже ничему не сопротивлялся. Последнее проявление неповиновения состояло лишь в том, что среди ночи он вставал, чтобы молиться. Кроме этого, он часто мочился в постель. Но, в сущности, он уже никого не занимал. Мамаша Симон чувствовала смутные угрызения совести и сознавала, что не понимает, к чему все это приведет. Она спрашивала Эбера, как же быть с чаянием папаши Дюшена: «Пусть маленького змееныша и его сестру отвезут куда-нибудь в пустыню. Я не знаю другого приемлемого способа от них избавиться; однако нужно это сделать любой ценой. К тому же, что может значить один ребенок, если речь идет о спасении Республики?» Но если так, чего же мы ждем? Кончилось тем, что мамаша Симон, жена тюремщика, терзаемая угрызениями совести, впала в безумие, и ее пришлось отвезти в Бисетр [13] Бисетр — психиатрическая больница в Париже.
.
8 января 1794 года Симон по настоянию Эбера был освобожден от обязанностей надзирателя за сыном Капета. Спустя десять дней чета Симон покинула Тампль.
— Маленький мой Капет, уж и не знаю, когда мы снова с тобой свидимся, — всхлипывала Мари-Жанна, в последний раз прижимая ребенка к груди.
— Не беспокойся, — осклабился Симон, который слегка пошатывался, поскольку был пьян, — жабеныш еще не раздавлен, но уж точно никуда из своего болота не выберется!
И он в последний раз неверным жестом, в котором смешались отвращение, привязанность, патриотизм, волнение, послушание и просто глупость, отвесил бывшему воспитаннику легкий подзатыльник.
Людовик XVII растерянно смотрел, как уходят его последние родители, и чувствовал себя опечаленным, сам не зная почему.
Комитет решил, что преемника у Симона не будет. В Тампле удвоили охрану, а ребенка перевели в другую комнату, совсем маленькую, на верху башни, откуда не разрешили выходить. На двери поставили замки и засовы, на окна — ставни, тоже запиравшиеся на замок, чтобы никто не смог увидеть дофина. Его держали изолированным от всех, ожидая приказа убить его, возвести на трон или выдать в обмен на то, чего потребуют вандейцы, испанцы или австрийцы. Толком революционеры не знали, что с ним делать, но этого и не нужно было знать. Ничего также не было известно о его состоянии здоровья.
Читать дальше

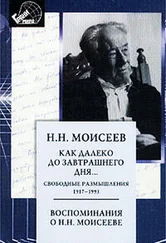



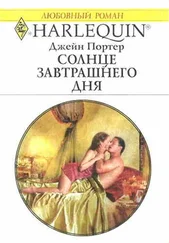

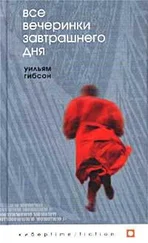

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)