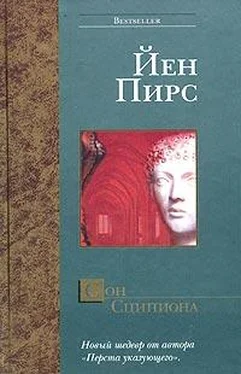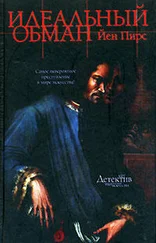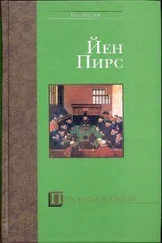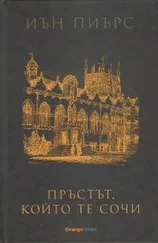А как же другие его друзья? Что станется с девушкой, которую он полюбил, и с ее хозяином, пусть он ворчлив и отличается тяжелым нравом? Если он сбежит, рано или поздно они погибнут; то, как все это представилось ему, указывает на пределы его прозрений. Если умрут все евреи, умрут и эти двое. Оливье не делал красивых жестов, не искал вечной славы для себя. Он даже не хотел спасти евреев, их судьбы его не касались. Ему хотелось только оберечь этих двоих. Ведь они заслуживают, чтобы их оставили в покое. Глупый, расточительный, тщетный жест — даже он сам это знал.
Он вернулся с ослом, отдав за него все свои деньги. Назад он пришел босиком и помог навьючить на осла книги Герсонида (нет, он скоро возненавидит книги, думал он, с трудом закрепляя связки), а потом подсадил и старика. Повод он отдал Ребекке.
— Уходите из города теперь же. Не возвращайтесь домой и не заходите в другие места, где живут евреи, пока не убедитесь, что это безопасно. — Он сказал это коротко, без подробностей, так как знал, что если заговорит с ней, как следовало бы, то уже не сможет остановиться.
— Но разве ты не уйдешь с нами? Ты должен.
— У меня тут дела.
— Какие?
Он пожал плечами:
— Важные. Дела, которые вас не касаются. Мне хотелось бы, но я не могу. А вы должны. Оставаться здесь слишком опасно.
— Нет, — сказала она. — Тебе тоже нужно уходить.
Он повернулся к Герсониду, ждавшему не менее терпеливо, чем осел, терпящий его вес.
— Почтеннейший, — воззвал он, — вели ей уйти с тобой.
— Думаю, так будет лучше, милая, — мягко сказал старик. — Покончив с делами, Оливье, без сомнения, нас догонит. — Поглядев на Оливье, он понял: что бы юноша ни задумал, на это шансов мало.
— Ну конечно, — сказал Оливье твердо, потом подошел к старику и заговорил с ним вполголоса: — Ты позаботишься о том, чтобы она осталась с тобой и сюда не вернулась?
— Конечно. Думаю, поддельную еврейку убить не труднее, чем настоящую.
— Я не могу попрощаться с ней как следует.
Старик кивнул:
— Пожалуй, нет.
— Прощай, почтеннейший. — Оливье улыбнулся. — Думаю, тебе ясно, сколь высоко я ценю наше знакомство.
— Нет. Но я стану утешать себя догадками до твоего возвращения.
Глубоко вздохнув, Оливье поклонился на прощание. Герсонид кивнул в ответ, но тут же вспомнил что-то еще.
— Да. Та рукопись, которую ты мне принес. Написанная епископом. В ней утверждается, что понимание важнее деяния. Что поступок добродетелен тогда, когда отражает чистое понимание, и будто добродетель происходит из понимания, а не из поступка.
— И?.. — нахмурился Оливье.
— Я открою тебе один секрет, милый мальчик.
— Какой?
— Я считаю, это неверно.
Разумеется, Жюльен не смог заснуть, на это не было и надежды. Он только мерил шагами квартиру, такую красивую и обычно такую удобную, но не находил ни отдыха, ни отдохновения. Нет, он ни о чем не думал. С того момента, когда он услышал об аресте Юлии, он был словно в глухом тумане, который никак не развеивался. Он ни о чем не думал, ничего не чувствовал. Он поймал себя на том, что его взгляд то и дело возвращается к четырем картинам, которые она ему подарила с такой гордостью, с таким обещанием будущего. Она свою проблему решила, он же не сумел найти ответов на свою, а поплатилась за это она. Понимание, каким бы оно ни было, пришло только тогда, когда ее увезли. Разумеется, Марсель был прав: точно так же, как Пизано превратил слепца и святую — Манлия и Софию, как думал теперь Жюльен, — в Оливье и его возлюбленную, Юлия нашла свое решение, продолжив то, что некогда сделал итальянский мастер, и трансформировав их в себя и Жюльена. Портрет-триптих на одну и ту же тему: заставить прозреть слепца.
Он поглядел в окно, надеясь, что повседневная суета и толчея его отвлекут, но город как вымер. Не было прохожих, спешащих куда-то по своим делам, почти все магазины закрыты. Машина только одна. Водитель покуривал, прислонясь к капоту. «И откуда у него сигареты?» — удивился Жюльен. Потом присмотрелся внимательнее и понял.
У дружбы есть свои пределы. Марсель приставил к нему полицейских, чтобы помешать ему бежать и предупредить Бернара. Он снова станет соучастником убийства. И тут он очнулся, физически почувствовал, как заработала его мысль, когда он осознал, что происходит. Он не успел вовремя на вокзал, не сумел сделать ничего, чтобы спасти Юлию. Но он хотя бы может не смириться и с этим тоже.
Собрался он быстро: переоделся, надел крепкие башмаки, съел то немногое, что нашлось на кухне, — несколько оливок, кусок черствого хлеба, помидор, ломтик сыра. Все валялось тут больше недели и было едва съедобным. Запил стаканом вина, почти уже скисшего, и даже подумал, что никогда еще не ел ничего омерзительнее.
Читать дальше