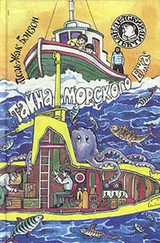Тот день я не забуду никогда. Это было в конце сентября. Казалось, что лето еще в самом разгаре, солнце светило вовсю, а стрекозы трещали крыльями в зарослях оливковых деревьев. Сразу после обеда мы с Кафи пошли в виноградники — дособрать то, что уцелело от ножниц сборщиков винограда.
Кафи был моим лучшим товарищем, лучшим другом. Мы выросли вместе, я — на двух ногах, а он— на четырех лапах, ведь Кафи — собака, самая прекрасная, самая умная собака на свете… Не только потому, что она моя, а потому, что это правда. Ее шерсть блестит, как прекрасный черный шелк, ну а если погладить по спине, она кажется бархатной. Огненно-рыжие лапы напоминают пламя огромного летнего костра в Сен-Жане. Когда пес закидывает их мне на плечи, его голова оказывается выше моей. Он носится как полоумный по всей деревне, но всегда возвращается и, запыхавшись, ложится у моих ног, высовывая свой розовый язык, длинный, как кукурузный листок.
Пса зовут Кафи в честь старого араба, который подарил мне его шесть лет назад. Тогда это был крошечный щенок, не больше клубка шерсти. Этот старый араб бродил от деревни к деревне, торгуя коврами и медной утварью. С ним путешествовала овчарка, она и стерегла товар. В Реянетт он пришел к вечеру и попросился переночевать в сарае за нашим домом. Ночью у собаки появилось двое малышей; один из них сразу же умер. Второго старик не мог забрать с собой, но он любил животных и не хотел его гибели. Он отдавал щенка просто так, ничего не прося взамен, и даже предложил нам самый красивый ковер, если мы оставим песика у себя. Мама была тронута. Зная, как я люблю собак, она взяла мне щенка, а от ковра отказалась. Теперь старый араб покидал нас со спокойной душой. Он хотел, чтобы мы назвали собачку его именем — Кафи, потому что у него на родине принято называть любимых животных в честь прежних хозяев.
Вот так Кафи остался с нами. Мы выкормили его из бутылочки, как ребенка, и он стал со мной неразлучен.
Итак, в этот день мы отправились на виноградники. Шустрый Кафи забегал вперед и хватал зубами самые лучшие виноградины. Но мне было грустно. Я знал, что кое-что должно случиться, и, может быть, уже скоро, как только вернется папа.
Вместо того чтобы обойти весь виноградник ряд за рядом, до самого конца, я посвистел Кафи, и мы вернулись в деревню прежней дорогой. Я присел на насыпь у берега реки. Кафи лег рядом и вопросительно уставился мне в глаза, как бы говоря: «Что с тобой, Тиду? Ты так спешишь назад? Посмотри, солнце еще высоко!..»
Нет, я не торопился, но непреодолимая сила влекла меня в Реянетт, куда сейчас, в это самое время, должен был приехать на автобусе мой папа. Я взял руками голову Кафи и посмотрел ему в глаза.
— Ты знаешь, Кафи, мы ждем папу. Понял ли ты, почему он встал так рано и надел свой выходной костюм? Он поехал в Лион. Это тебе ни о чем не говорит? Лион — большой город на берегу Роны, такой же, как Авиньон. Может быть, и мы скоротуда поедем…
Кафи смотрел на меня своими умными глазами, и казалось, что ему все понятно. В доказательство своей дружбы он, как обычно, слегка ткнулся холодным черным носом в мою щеку.
— Конечно, Кафи, если мы уедем из Реянетта, у нас не будет такого раздолья. Ты больше не услышишь стрекоз, не можешь гоняться за бабочками, но я буду часто выводить тебя погулять, там тоже есть река — Рона.
Я ждал прибытия автобуса, сидя на каменной скамейке на площади. Наша единственная площадь была такой маленькой, что даже машина на ней разворачивалась в два приема. Кафи передалось мое волнение; он так наклонил голову, как будто и сам был встревожен. Я гладил его по голове, мял острое ухо, постоянно поглядывая на башенные часы. Не знаю почему, но по мере того как шло время, моя тревога все усиливалась.
Папа уже давно хотел переехать в город. Но не из-за того, что ему здесь не нравилось, нет! Просто наш край был бедным, и жить становилось все труднее и труднее. Маленькую ткацкую фабрику, где работал папа, этот единственный источник существования на всю округу, грозились вот-вот закрыть. Если бы у нас был хоть виноградник или несколько оливковых деревьев, как у большинства жителей Реянетта… Но у нас не было ничего. И вот однажды папа написал письмо своему старому лионскому другу, чтобы он подыскал ему какую-нибудь работу и жилье. С работой дело обстояло проще: у моего отца были золотые руки, он мог починить любой ткацкий станок, а вот с жильем…
Наконец папин друг присмотрел нам квартиру в старом доме в районе Круа-Русс, где жили прядильщики и ткачи.
Читать дальше