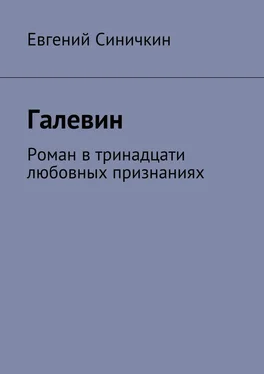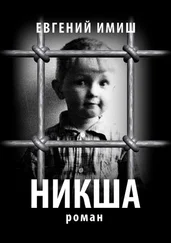Кто-то обвинит меня в том, что я чересчур подробно, обстоятельно и витиевато описываю малоинтересные детали своей жизни. Но разве будут понятны мои чувства, если я не расскажу о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго не мог отрешиться от юношеской наивности? Разве прогулки по немому лесу, осиянному прорывавшимися сквозь плотные преграды стволов солнечными лучами, игры на руинах неизвестного здания, чьи бордовые кирпичи в моём воображении становились развалинами Камелота, расслабленный отдых на залитой светом равнине, в центре которой искрились приветливые воды озера, неумелая езда на четырехколёсных роликах, оборачивавшаяся синяками, ободранными ладонями и разбитыми коленками, великие сражения с участием пластиковых солдатиков, происходившие под стволами клёнов и в недрах кучи песка, сваленного в двух шагах от участка, – разве всё это не выстраивало, тростинка за тростинкой, веточка за веточкой, невзрачный шалаш моей личности?
Самый младший из здешних ребят был старше меня на четыре года. Для их сложившейся за долгие годы компании я был чужаком, пришельцем, шпионом, от которого следовало держаться подальше. Они терпели меня возле себя лишь потому, что так просила бабушка, пользовавшаяся в районе непререкаемым авторитетом Вито Корлеоне. Однако именно эти ребята, издевавшиеся над моим именем, через день нажиравшиеся вусмерть, как крепостные мужики, рукоблудившие всем скопом в ветхом сарайчике, где спёртый воздух вызывал головокружение, открыли мне, хотя сами того не ведали, мир поразительных чудес.
Заводилой ватаги был пятнадцатилетний мальчик по имени Витя, худосочный, вытянутый, смахивающий на жердь, рыжий, с обсыпанным веснушками, бледным лицом, остроухий и с неизменной дымившейся сигаретой, зажатой в костлявых пальцах. На территории участка его родителей стояли параллельно два дома: семья жила в новом – большом, просторном двухэтажном строении, с трёх сторон обласканном курчавыми лианами девичьего винограда, а старый, лилипутскими габаритами вызывавший сравнение с домиком для нежеланных гостей, теснился у досочного забора, забытый и плевельный, как бедный родственник. Этот обшарпанный домик давным-давно возвёл дед Вити, скончавшийся за два года до моего первого приезда на дачу. К домику от синей калитки с колокольчиком без язычка, которую заколотили после смерти деда, ползла выверенная, как по линейке, вытоптанная дорожка; слева от нее, вздувшаяся от влажности и облюбованная слизняками, перевернулась набок конура для кавказской овчарки, когда-то погибшей под колёсами поезда; дорожка заканчивалась у лепреконского двухступенчатого крылечка, предназначение которого было объято тайной, потому что уместить там даже кухонный табурет, не говоря уже о чиппендейловском кресле и тем паче достархане, накрытом на топчане, являлось миссией невыполнимой для всех, за исключением, разумеется, Тома Круза. В дом никто не ходил. Обычно деревянная дверь, при жизни деда вкусного апельсинового цвета, а после покрывшаяся серо-буро-малиновыми проплешинами, с шаровидной ручкой, неосторожное прикосновение к которой могло привести к появлению в ладони парочки глубоко засевших заноз, была заперта на ключ, но однажды, рядовым июльским деньком, когда палившее солнце сжалилось над нами и удалилось на перекур за дождливые тучи, асфальтовые, низкие, свирепые, как бык на корриде, а у соседей залаял блондинистый алабай, предчувствовавший неминуемую грозу, Витя впустил нас в угрюмое помещение, поделённое на две равные комнаты – кухню и спальню. Выцветшие бистровые шторы не пропускали уличный свет, лампочки перегорели, поэтому внутреннее убранство было погружено в безмятежную тьму заброшенного дома. Резкий застоявшийся воздух, как газ, вызывал сухость во рту и резь в глазах. Простенькие белые обои со следами грязных пальцев и кетчупа вздулись и отклеивались. Ни звука. Дом производил удручающее и гнетущее впечатление обречённой на гибель усадьбы Ашеров в миниатюре. Ребята решили не задерживаться: подвигав мебель и порывшись в кухонных шкафчиках, они вышли наружу. Я остался один. Мне не хотелось уходить. Смутное предвкушение открытий, заставлявшее трепетать весь организм, влекло меня в спальню – так, верно, направляют на безумства голоса, звучащие в голове шизофреника. Я одёрнул шторы – чуть-чуть посветлело. На прочной сосновой тумбе в углу спальни, едва превосходившей размерами комнатный альков, громоздился граммофон с внушительным железным рупором. За дверцей тумбы, сложенные ровной стопкой, лежали в прекрасно сохранившихся конвертах пластинки. Не ведая по молодости лет, к какой святыне дерзнул прикоснуться, я вытащил верхнюю. С четвёртой попытки я разобрался в устройстве граммофона и запустил зашипевший виниловый диск. Никогда до того момента я не понимал искусства музыки священной: выступления низкопробных эстрадников, которые мама смотрела по телевизору, и рванная, дёрганная, шабашная танцевальная музыка, игравшая в школе по праздникам, отпугивали меня безжизненным однообразием и демонстративной грубостью, – но в те мгновения мой вслух впервые различил в ней чей-то голос сокровенный. Играла запись E lucevan le stelle 1957-го года в исполнении Франко Корелли. Его дивный тенор, переливчатый, как северное сияние, сладко-горький, как тёплый поток радостных слёз, сокрушающий, как гигантское торнадо, олицетворял собой совершенную, всепобеждающую красоту, которая никем и никак не может быть опорочена; когда шелестом летнего платья, скрывавшего под собой мягкую, как карамель, девственную кожу прелестной возлюбленной, раздалось нежнейшее диминуэндо на верхнем ля в слове disciogliea, вечное, как небытие смерти, мой мир рухнул в бездонную пропасть и через мгновение, продлившееся миллионы лет, вознёсся к небесам; в душе погас свет, как уличный рожок без газа, и разгорелся вновь, как кровавый раздор вражды минувших дней в маленьком итальянском городке; злость, глодавшая меня изнутри, слабела и отступала, уносимая прочь каплями дождя, хлеставшими по крыше визгливыми кнутами надсмотрщика; я почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь.
Читать дальше