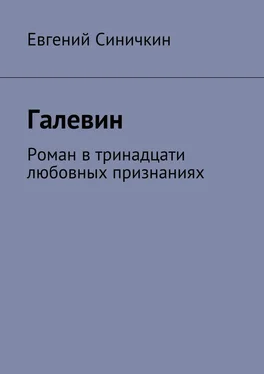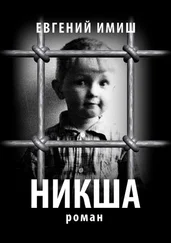1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Отношения с одноклассниками у меня не сложились. Дети сторонились меня как прокажённого, избегали смотреть в мою сторону, как если бы я был Джозефом Мерриком своего времени. Вместе с тем во внешности моей нельзя было отыскать черт необыкновенных или пугающих; на загорелой коже отсутствовали гниющие язвы и тошнотворные наросты, голова, покрытая каштановыми волосами, не выделялась пантагрюэлевскими размерами, все конечности были на месте и не производили впечатление деформированных. Свой гардероб, незатейливый, скромный, ограниченный, я старался содержать в чистоте, не позволяя себе приходить в школу в дурно пахнущей одежде. Месяцами я искал сверстника, не испытывавшего ко мне необъяснимого отвращения, и надеялся понять, за какие прегрешения меня подвергли этому жесткому остракизму. Усилия были тщетны. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своём стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; вынужденное отшельничество лишило меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Я думал, что проклят небесами, которые прогневал в прошлой жизни; смотрясь в зеркало, я пытался различить на своем челе Каинову печать, утаённую от меня, но очевидную для всех остальных; я был Вуличем, окружённым десятками и сотнями Печориных. Чтобы чем-то занять себя на переменах и скучных уроках, отвлечься от всепожирающего чувства отчуждённости, я начал писать любовные письма к Нелли. В моих безыскусных посланиях читались детская непосредственность и подсознательное влечение к эстетическому великолепию. Завершив письмо, я бесщадно рвал его на мелкие части, складывал обрывки между страниц учебника и по дороге домой выбрасывал в мусорные ящики. Никто не должен был их прочитать. Я предпринимал все меры предосторожности, дабы мои сокровенные признания не попались кому-либо на глаза, но однажды допустил непростительную ошибку. Меня вызвали к доске, и в спешке я не успел убрать письмо, оставив его лежать на парте; когда я вернулся, письма уже не было. В ту секунду время остановилось. Мои зубы бились друг о друга так, как будто хотели искрошиться в порошок. Я боялся вздохнуть, выдохнуть, пошевелиться. Стыд сковал мои члены и тащил на плаху. На перемене меня казнили. Ребята, чьих имён я не могу вспомнить, закрыли дверь, попросили всех остаться и, демонстрируя завидный актёрский талант, во всеуслышание огласили рыдания моего доверчивого сердца. Смеялись безликие дети, учительница, кварцевые часы, висевшие над входом в класс, кактусы в горшках, стоявшие на подоконнике, пожелтевший кружевной тюль, ручки, карандаши, линейки, специально выбравшиеся из пеналов, и, разумеется, смеялась Нелли. Её задорный, звонкий хохот оглушал меня. Я не смел поднять глаз. После уроков мальчишки поймали меня за школой; я не видел, как они подошли и сколько их было; меня повалили в грязный снег; били в голову, по спине, в пах, душили брючным ремнем; они кричали, чтобы я держался подальше от Нелли, не смотрел на неё, не думал о ней; Нелли стояла в стороне, улыбалась своей беззлобной, прямодушной улыбкой, которая очаровала меня в первую нашу встречу; я сжался в комок, закрыл глаза и беззвучно плакал, осознавая, что здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.
В скором времени меня начали мучить ночные кошмары, избавиться от которых не удается до сих пор. Мне снилось, что я стою на пустыре, за каким-то полуразрушенным складом; фисташковое солнце, скупое и бесчувственное, озаряет раскромсанный, побелевший асфальт и мелкие клочья лоснящейся травы; тревога нависает кронами возникающих из ниоткуда деревьев; в мою сторону, обезличенные, бестелесные, пустые и страшные, движутся тени, полчища, легионы теней, они тянут руки, длинные и тонкие, как прутья; я пячусь, отворачиваюсь от них и бегу, хочу убежать, но бетон превращается в тягучий, вязкий песок; он засасывает меня, нет сил двинуть ногой, тени, деревья, солнце падают с посеревшего неба, и я задыхаюсь под тяжестью их полой ненависти. В другую ночь я мог видеть Армагеддон; большая часть мира уничтожена ядерным и химическим оружием; оставшиеся в живых люди мутировали в гигантских ящериц – новых динозавров, созданных безумным гением неизвестного апологета генной инженерии; сквозь густые заросли амазонских джунглей – откуда они появились? – я пробираюсь к своему дому, ищу маму, отца; зданий нет, никаких людей, путь усеян вывернутыми наизнанку трупами щенков, я натыкаюсь на широкую поляну; слышится лёгкий шорох, что-то опутывает мои ноги, с ужасом смотрю вниз, это гибкий, склизкий и холодный хвост ящерицы; из кустов ухмыляется раскрытая крокодилья пасть, на ландыши низвергаются хляби слюней, от которых несёт гнилым мясом; перламутровые угли глаз переливаются красно-фиолетовым огнём; ящерица говорит вкрадчивым голосом; слов не разобрать; нет, минутку, я различаю, понимаю её медоточивое шипение: «С возвращением, сынок, ты дома…». Сновидения переносили меня в гигантский дом в тысячу этажей, устроенный на манер бессистемного лабиринта; миллиарды лет я блуждал по замысловатым коридорам и нескончаемым лестницам, не отдавая себе отчёта в том, что должен делать; я мечтал выбраться из этого царства бликующих люминесцентных ламп, дырявых отопительных труб, из которых валили струи пара, мёртвых человеческих тел, лежащих вдоль азбантиевых стен, но не знал, где найти выход; моим единственным компаньоном был воробушек, прилетавший раз в сотню лет; наши встречи длились минуту, из хлебных крошек воробушек составлял слово «вечность» и улетал, бросая меня одного. Часто во время дрёмы я делался приглашённым врачом, проводившим независимую экспертизу психиатрической лечебницы; всякий раз мне попадался пациент, который был совершенно здоров, в больнице его удерживали против воли, не имея к тому ни малейших законных оснований; почему-то спасти я его мог, только устроив побег; нам удавалось выбраться из палаты, незамеченными мы добирались до высокой каменной стены, служившей забором, и уже перелезали, как внезапно я попадал в западню – в тесную коробку из плотного, жёсткого материала, с вырезанным окошком для глаз, откуда лился ласковый солнечный свет; затем я падал, но как-то неспешно, словно в замедленной съёмке; лучи солнца, пробивавшиеся через окошко, более не касались меня, они светили на недостижимой высоте, а в коробке не утихало эхо множества голосов: «Ты наш…». Я просыпался с криком, в ледяном поту, давясь жгучими слезами, стараясь унять сердце, мчавшееся ураганным карьером, как спятившая лошадь. Ложась спать, я боялся не проснуться и навсегда остаться заточенным в мире кошмаров. Сон ассоциировался у меня со смертью.
Читать дальше