«От жизни нужно брать всегда и всё, – твердила Марфа Никитична – тем более, когда она сама тебе это всё предоставляет». Что пошатнуло нравственную составляющую её сердца, приходится только гадать, но обозвать со всей прозрачной честностью эту женщину кладезем добродетели было бы как минимум странно. Дом же, в котором проживала подполковник Миклашевская, несмотря на его одноэтажность, был уж слишком велик для неё одной с двумя старыми питбулями, горничной и садовником обитавшими там же в пристроенном флигеле отдалённо походившим на языческое капище. Всё это было описано только для того, дабы показать её меры воспитания сына, поселив его в чахлой однушке, в рассыпающимся районе Старого города. Уверенность в собственной педагогике Марфы Никитичны заключалась лишь в том, что поживи ретивый Коля, привыкший к должному уходу, домашнему уюту, а так же к изобилию домашнего пира, несколько месяцев в собственно выбранном гетто, примчит в родное гнездо обновлённым человеком. Но шли недели, месяцы и вот уже год, а упрямство, хотя может быть и необходимость свободы для Николая, только крепчала.
Жил он в действительности бедно. И мог по праву называться (в материальном понимании конечно) самым бедным художником изобразительного искусства. Николай Всеволодович был самородком и весьма одарённым самородком, писавшим, совсем не дурно, скажу я вам, городские пейзажи. В его холодных четырёх углах не было ровным счётом ничего кроме: сеточной кровати, на которой он со временем заработал сколиоз, деревянного стола, двух стульев, примитивной кухонной утвари, фикуса на грязном подоконнике, красок, мольберта, и пожухлой репродукции Эдварда Мунка с его «Криком». Короче говоря, всё, что находилось в квартире Карельникова, представляло ценность только для него самого.
Первые краски, заметив увлечение и, что куда весомее, способности юного Коли, мальчику подарил его любящий отец. Николаю Всеволодовичу, к превеликому сожалению, посчастливилось держать отца за палец во время долгих прогулок, всего лишь до второго класса средней школы. Страшная болезнь, которую автор едва ли сможет написать, а Николай выговорить, вручила билет Всеволоду Валерьяновичу на мчащийся экспресс с отметкой «бесконечность». Но, не беря во внимание их столь короткое знакомство, Николай Всеволодович бережно хранил каждый пазл детских воспоминаний из нескольких картин в своём чувственном сердце. Ему тогда казалось, что в целом мире больше не найдётся такого человека, которого Николай смог бы полюбить так же крепко. Ох, как он тогда ошибался…
К своим двадцати трём годам Карельников уже успел написать несколько десятков картин, большинство из которых уничтожали и без того скудное пространство его квартиры. Однако всё же, что-то и продавалось. Правда этих денег, увы, едва хватало на бумагу, оплату половины стоимости снимаемой квартиры и на ужин, утолявший его голод всего на несколько часов. Свои уличные выставки, Николай Всеволодович организовывал сам, ввиду крайней необходимости заполнения своих карманов шуршащими купюрами. Не целесообразно будет огорчаться, рассматривая в молодом художнике сухую серость коммерции. Он писал, писал вопреки неудачам, писал, не смотря на бездушных ценителей искусства проходящих мимо. И совсем не так, какие были у него в знакомых, художники, не притрагивающиеся к кисти до тех пор, пока не продадут написанного. Он писал, словно его что-то жгло изнутри, не давая уснуть затмевая любые неурядицы жизни летающие крикливыми воронами над головой, всё заставляя художника вновь разводить палитру вглядываясь в белоснежный холст. И этот синий пламень, тот самый, так палящий его душу вовсе не был правящей рукою и проведением на пути просвещения. Все года осознанного существования это «что-то» требовало от художника самовыражения. Сказать, что Николай Всеволодович был человеком импульсивным, было бы не верно, хотя давая по тянущимся рукам старому, доброму лукавству… Во время работы над очередной картиной из жизни города N*, пару раз к ряду он таки брался за конвертный резак, при непреодолимом желании перевести уже им созданное. За всем тем остывал, начиная любоваться изяществом собственной кисти, клал нож рядом с пышным фикусом и продолжал работу. Эти всплески его внутреннего Я, наверное, единственное, что не поддавалось контролю.
Работалось ему всегда, как свет горит, просто и непринуждённо. Ежели он наблюдал сходство между сюжетами своих картин, он тотчас же (несомненно, припомнив при этом Шекспира) изменял или добавлял определённое количество незначительных на первый взгляд деталей и представлял миру совершенное искусство. Лучше всего Николаю Всеволодовичу писалось под музыку, что часто и непрерывно разливалась по другую сторону квартирной стены у пожилого музыканта, о ком уже поминалось несколько ранее. Художник без устали любил эти минуты. Рука сама находила нужные тропы по бездонному холсту, словно танцуя под венский вальс Шопена, так полюбившийся Николаю. Он закрывал глаза, он переставал дышать, позволяя лишь кисти, своею шевелюрой выписывать тонкие грани осеннего листа. Это был великолепный синтез двух бьющихся сердец искусства чувствующих планету. Когда музыкант закрывал крышку своего рояля и Николай Всеволодович набрасывал на мольберт замызганный лоскут, тогда они собирались вместе, как правило, в квартире музыканта за беседой и терпким бергамотовым чаем.
Читать дальше





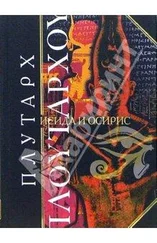
![Дмитрий Серебряков - Наемник [СИ]](/books/390768/dmitrij-serebryakov-naemnik-si-thumb.webp)





