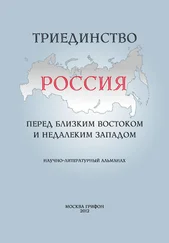Мы подошли к водоему, в котором отражалась выглянувшая из-за туч луна. Вновь ослепительно сверкнула молния, а через пару секунд, как удар кувалдой по железу, прогремел гром.
— Да, выразительная картинная галерея с портретами, — произнес Левонидзе. — Надо прямо билеты продавать за вход.
— Зоопарк, — поправил его следователь.
Я ждал, когда же наконец-то разразится гроза и на землю из небесных врат обрушатся очистительные потоки воды.
Конечно же, Волков-Сухоруков чересчур сгустил краски в своей «портретной галерее». Ему бы не картины, а фильмы ужасов снимать, наряду с Хичкоком. У каждого из клиентов были, естественно, свои проблемы, но вполне купируемые и разрешимые в рамках психотерапевтических сеансов. Доказательством чему и послужил мой ежевечерний прием, который я проводил, как правило, в библиотеке. Являться на него мог любой, изъявивший желание, а если никто так и не приходил, то все равно мне было чем заняться в обществе Монтеня, Спинозы или Анаксагора. Комната, где находилась библиотека, имела вытянутую прямоугольную форму, одна дверь вела в коридор первого этажа, другая — большая и стеклянная — в парк Обычно пациенты сюда заглядывали просто поболтать, снять напряжение. Но видеокамера фиксировала все, давая мне материал для последующего психоанализа.
Первым в этот поздний вечер меня посетил Тарасевич. Был он на удивление серьезен. Я отложил книгу, заложив страницу календариком.
— Что читаем? — спросил физик, бросив взгляд на название. — А, Шамфор… Уважаю. Кажется, это он сказал, что сочетать снисходительное презрение с сарказмом веселья — лучшая философия для этого мира?
— Вы совершенно верно цитируете, Евгений Львович, — согласился я. — Да и сами всецело следуете этому правилу. Или я ошибаюсь?
— Нет, именно таю я смеюсь, потому что презираю, и презираю, потому что смеюсь. Но люди большего и не заслуживают. Знаете, у меня ведь было трудное детство. Поневоле станешь и смешливым, и жестоким.
— Вы никогда об этом не рассказывали.
— Да. А теперь хочу. У вас есть время?
— Конечно. На то я и ваш доктор.
Физик уселся поудобнее и начал:
— Я детдомовец, родителей своих не знаю. Они сдали меня в приют совсем маленьким, а сами… растворились. Ну и черт с ними, не жалко. Еще неизвестно, каким бы я вырос, окруженный родительской заботой и лаской. По крайней мере, ученым бы не стал. Брошенный в воду посредине реки быстрее научится плавать. Или утонет. Я, как видите, выплыл. Но мне не дает покоя одна история из моего детства. Тянется за мной как шлейф. Иногда надолго забываю, а потом она вновь восстанавливается во всех подробностях.
— Я внимательно слушаю.
Тарасевич не спеша набил трубку и закурил. Стеклянная дверь в парк была открыта, там колыхалась занавеска.
— Было нам лет по тринадцать, — посопев, продолжил Евгений Львович. — Я уже тогда вовсю экспериментировал со всякими взрывчатыми веществами. Селитра, сухой порох, прочая дрянь. Мальчишки знают, на какой свалке все это можно достать. Сейчас уж и не помню, что именно я заложил в ту сигарету. Так, смеха ради. И дал покурить своему лучшему другу. Он сделал пару затяжек, ничего не подозревая. А я шутил, смеялся, но сам с напряженным вниманием ждал — что произойдет дальше? Как изменится его лицо, глаза? Словно наблюдал за лабораторной крысой. Ну и… дождался. Нет, ничего серьезного не произошло. Заряд был слишком маленьким, не дурак же я вовсе? Взрыв был, но огонь лишь опалил ему губы и брови. Через пару дней все зажило. Главное было в другом. Он испугался. Причем так, что едва не потерял сознание. Наверное, никак не ожидал такой подлянки от своего першего другана, с которым делился последней булкой. С тех пор стал заикаться. Каково, а?
— Скверно, — сказал я. — Но ведь это еще не все, не так ли?
— По идее, достаточно было бы и этого, чтобы поставить на мне клеймо, — ответил физик, взглянув на колышащуюся занавеску. — Я пытался всячески загладить свою вину перед другом. Мальчишки устроили мне обструкцию, даже побили. Но больнее всего мне было от того презрения… нет, от той жалости, с которой смотрел на меня теперь этот заика, мой бывший друг. Чтобы наказать себя, я взял и сиганул с крыши сарая на угольную кучу. Сломал ногу, шейку бедра. — Тарасевич постучал по полу сандаловой тростью. — Хожу вот теперь с палкой. А он… По-моему, он на всю жизнь остался «испуганным человеком». Из него ничего путного не вышло, я узнавал. Он так и не примирился со мной. Не я ли определил его жребий в этом мире? Доктор, почему я до сих пор помню об этом?
Читать дальше
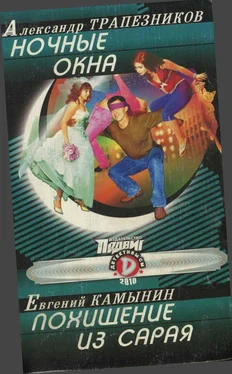
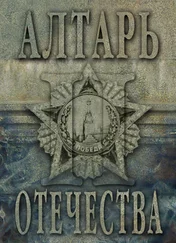


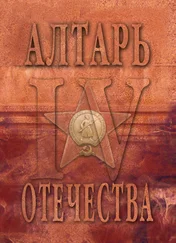
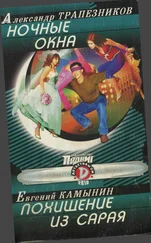
![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1969 № 03 [альманах]](/books/422160/almanah-podvig-podvig-1969-03-almanah-thumb.webp)
![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1981 № 04 [альманах]](/books/422161/almanah-podvig-podvig-1981-04-almanah-thumb.webp)