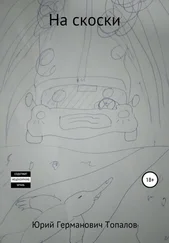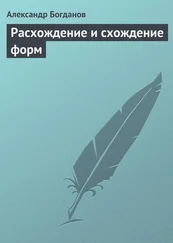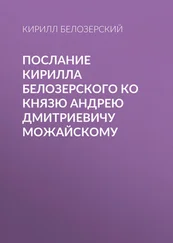Кирилл Топалов - Расхождение
Здесь есть возможность читать онлайн «Кирилл Топалов - Расхождение» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1993, ISBN: 1993, Издательство: Радуга, Жанр: Детектив, great_story, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Расхождение
- Автор:
- Издательство:Радуга
- Жанр:
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:5-05-004087-6
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Расхождение: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Расхождение»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Расхождение — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Расхождение», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Так постепенно я стала чувствовать себя совсем как маленькая девочка, а Марии явно доставляло удовольствие заботиться обо мне, в ней проснулись сразу и сестра, и подруга, и даже мать, несмотря на то что она, как и я, никогда не качала колыбель. Только теперь я до конца поняла, почему Мария так любила меня — я помогла ей почувствовать себя женщиной во многих лицах и выполнить, насколько это было возможно в нашем случае, свое предназначение. Она как нахохлившийся ястреб берегла меня от приставаний ее пьяных любовников, среди которых был и шеф околийской полиции.
Она часто с грустной улыбкой говорила мне:
— Ты не провалишь свою жизнь, как я. Когда вы возьмете власть, твой вернется, вы поженитесь, а Мария будет нянчить вашу ребятню. И будет бесплатной прислугой…
— Тогда не будет прислуг! И ты будешь не прислуга, а член семьи! Что-то вроде молодой бабушки или тети, как тебе больше понравится. А лучше всего — будешь нашей мамой, или еще лучше — сестрой.
— Нет, прислуги нужны будут, обязательно нужны, вот увидишь! — не отступала Мария. — Если не будет прислуг, как же вы, женщины, сможете работать и заниматься общественной работой наравне с мужчинами, а? Э-эх, была бы я помоложе…
— Ну, и что бы ты сделала?
— Я бы сунулась в самую-самую трудную мужскую профессию и освоила бы ее. И доказала бы этим козявкам — мужикам, чего может добиться такая женщина, как Мария! И прославилась бы на весь мир!.. И все газеты написали бы про меня большими буквами, и мой бельгиец прочел бы. И приехал, и упал бы в ноги, и раскаялся, и… — В общем, она очень далеко унеслась в мечтах, но я своим любопытством вернула ее на землю.
— И все-таки — какую профессию ты выбрала бы?
— Ну… например, пожарника. Или совершила бы путешествие на Северный полюс. Или…
— Или стала бы министром!
Мария резко махнула рукой.
— Я говорю тебе о мужских профессиях.
— А разве политика — это не…
— Политика — это проститучье дело! — отрезала она. — Сегодня вертишь задницей в одну сторону, завтра — в другую. А народ голодает.
— В новой жизни не будет этого, — попыталась я объяснить ей. — Политика будет служить народу, и не будет ни голода, ни жажды, и вообще не будет несчастных!
— Посмотрим, посмотрим… — она с сомнением покачала головой. — Голода и жажды, может, и не будет, хотя кто знает… А вот как вы справитесь с несчастьем? Тут мало одних добрых намерений.
— А мы будем бороться!
— Ну что ж, боритесь, — в ее голосе вдруг послышались усталость и тоска. Потом она, видимо, вспомнила о чем-то и тихо добавила: — Только смотрите в оба — эти канальи не прощают…
Тут я осмелела — впервые за все время:
— Скажи мне, Мария, почему ты помогаешь нам? Ведь ты не разделяешь наших взглядов?
— Потому что я ненавижу фашистов.
— За что?
— За то, что они захватили Бельгию и, может быть, убили или сожгли в камере моего человека. По-моему, он был еврей…
— Только за это?
— Тебе кажется, этого мало?
— Ну, нет, но…
— Тогда прибавь еще: не знаю, какими будете вы, но они — скоты. Грязные псы с ненасытной утробой. А я, может, и родилась в богатом доме, но я пролетарий и я — за народ!
— Ты — мелкая буржуазия, — повторила я слова Георгия, которые он так давно произнес. Чтобы Мария не обижалась, я смягчила их улыбкой. Но остановиться уже не могла: — У тебя есть маленькое дельце, ради которого ты готова три раза на дню продавать душу…
— Кому, например? — полюбопытствовала с иронией Мария, видимо очарованная моей блестящей характеристикой ее классовой принадлежности.
— Например, полиции…
— Полиции я в данный момент продаю только свою задницу, чтобы сохранить и себя, и тебя, — я уже объясняла тебе все это однажды, да и ты сама, думаю, не слепая, видишь, наверно, кто ко мне наведывается время от времени. И чтобы ты знала, голубка, полиция еще не доросла до моей души и никогда не дорастет до нее. В данный момент она, то есть полиция, остается пониже моего поясочка. Твоя сестра Мария не продаст свою душу и достоинство за дворец твоей госпожи Робевой, не продаст она их и за какой-то паршивый тир… Ваша теория ко мне не относится!
— Ну, к тебе, может, и не относится, но к другим…
— А что другие, что другие? — вдруг рассердилась Мария. — Моим тиром, моей душой и моей задницей владею я одна, и отвечаю за них тоже одна я! А другие — пусть каждый отвечает за себя!
Так же бесславно заканчивалась любая моя попытка образовать Марию политически, она упорно придерживалась своего принципа — «каждый сам себе голова». Но вместе с тем никогда не мешала мне делать свое «дело». На следующий вечер после исчезновения Георгия пришли с обыском в подвал бай Дончо — хорошо, что мы успели все оттуда вынести. Спрашивали про Георгия и Свилена, бай Дончо и его жена говорили о них только самое хорошее — никогда, дескать, не замечали за ними ничего сомнительного, больше того — иногда вечерами мальчики пели немецкие песни. Тут они явно пересолили, потому что полицаи хорошо знали, чьи дети Георгий и Свилен, и агент ехидно спросил Дончовицу, не спутала ли она немецкие песни с русскими. Дончовица испугалась и стала даже напевать те песни, которые пели ее «благонадежные» квартиранты. Как бы там ни было, бай Дончо подписал бумагу с обязательством сообщить полиции, если парни заявятся к нему. Спрашивали и про девчонку, которая часто появлялась у них, но на это Дончовица решительно ответила, что никакие девчонки порога ее дома не переступали. На этом, к счастью, дело и кончилось. Обо всем об этом Мария узнала от околийского начальника, которого она сумела убедить в том, что мы с ней родня и, если она заметит в моей голове какую-нибудь политическую муть, она выжжет оттуда ее каленым железом… Благодаря Марии и моим обязанностям в тире мы составили список полицейских осведомителей — предполагаемых и тех, кто наверняка работал на них. Зимой наши ребята обезвредили трех самых опасных стукачей…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Расхождение»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Расхождение» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Расхождение» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
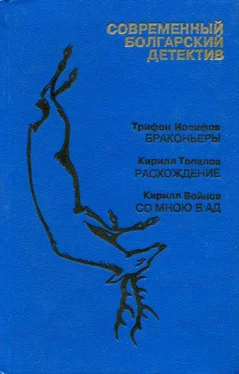




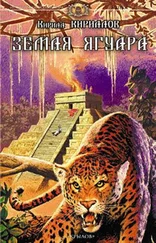

![Юрий Топалов - На скоски [litres самиздат]](/books/437068/yurij-topalov-na-skoski-litres-samizdat-thumb.webp)