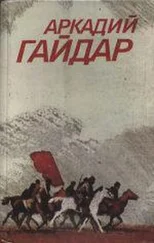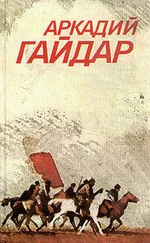«/…/ Два дня пролетели как две минуты. И вернуло меня к тому нашему счастью которое мы не ценили. Не знаю как ты, а я только вот когда ты уехала понял, что не ценил потому, что был глупый и ничего не понимал про жизнь. /…/ Теперь надо ждать целый год, чтобы опять увидеть тебя и обнять как всегда. Нет не как всегда, а как когда-то… Напиши только честно ты понимаешь, что я сейчас переживаю??? Просыпаюсь вдруг посреди ночи протягиваю руку, а тебя нет. Хотя вообще то сплю здесь как убитый. А почему? Вкалываешь вкалываешь весь день заваливаешься и нет причин чтобы не спать. /…/ Крепко-крепко-крепко целую. Я тебя очень-очень люблю. А ты? Надеюсь тоже. /…/»
«/…/ Приближается положенное кратко срочное свидание. Дают часа два или три, я даже неспрашивал сколько, дают по-разному кто сколько заслужил. Но не больше чем три часа. Ты приедешь? Это свидание просто чтобы подразнить. /…/ Все равно мне так хочется хотя бы посмотреть на тебя. Все вспомнить и по глазам твоим понять, что и ты помнишь. И тоже веришь, что все будет хорошо.»
«/…/ Сестренка! /…/ Тебе еще не надоело ждать? Время идет. Ты же сама говорила. Помнишь, что ты говорила? /…/»
«Вот уже и третье день рождение вдали от родного дома /…/ Ниночка дорогая моя, ты просто должна мне все время писать, что любишь меня иначе мне даже не очень а совсем плохо. Ты всегда говорила мне это когда мы были вместе, а теперь мне это еще важнее. Просто намного важнее!!!»
«В твой День Рождение желаю тебе и мне тоже больше выдержки и терпения. Не унывай все невзгоды пройдут и мы снова будем вместе. И навсегда! Ведь правда??? /…/ Крепко-крепко целую тебя мою Ниночку».
(В связку писем, переданных мне Ниной, затесалось, между прочим, и коротенькое письмишко Петушка другой сестре, Кате, — вероятно, присланное ею Нине для ознакомления. Там такие строки: «Поздравляю с день рождение и желаю тебе больших успехов в учебе. Брат Петя».)
«/…/ Приближается хотя и не скоро еще очередное личное свидание. Старики пишут, что готовятся, собирают деньги и приедут всей семьей. Я им написал уже два письма чтобы не тратились и не мучили себя трудной дорогой. Но мать пишет чтобы я не писал таких глупостей, что они все равно приедут. Значит мы на все эти несчастные-разнесчастные два дня окажемся все вместе и никакое отдельное личное нам с тобой уже не дадут. Я ничего не могу с ними поделать, может быть ты сумеешь им внушить? Ты ведь так хорошо умеешь внушать!!! Попробуй сестренка, Ниночка моя дорогая /…/»
Комментировать эти письма, которые, не скрою, меня огорошили, конечно, не нужно. Все очевидно, все дико, все горько… Лишь одно я понять так и не смог: зачем Нина мне их дала, эти письма? Ни о чем подобном я ее не просил. Не было ни малейшей причины, чтобы сделать меня читателем этой интимной лирики. Содержание писем никак не могло повлиять на неведомых судей в верхах, если бы вдруг я вздумал использовать в жалобах избранные места из пылких любовных признаний. И, естественно, даже в страшном сне не могло мне привидеться, что я стану их где-то цитировать. Зачем же тогда?..
Вдруг меня осенило. Ведь это она ненавязчивым образом (нет, скорее навязчивым) дает мне понять, как был я нелеп в своем стремлении отыскать истоки побоища. Нелеп и даже опасен. Как мог оказаться в роли того врача, который с усердием лечит, а больные мрут от этих чрезмерных усердий. Докопайся я тогда до «мотива», может быть, догадался бы, что оказавшийся смертельным удар был точно осознанным и что нанес его именно Петя, а не кто-то другой. В отместку за оскорбление: «Луганский стал задираться»… Кого же он задирал? Незнакомых ребят, приехавших из Москвы покататься на лыжах? С чего бы?
Один из них, Витя Горный, обронил на следствии фразу, которую следователь и судья вообще не взяли в расчет. И я не взял тоже, ибо она повисла в воздухе, неведомо кем произнесенная и неведомо к кому обращенная. Придется ее привести такой, какой она записана в протоколе, без стыдливой цензуры: «Не знаю, кто точно, я их по именам никого не знал, кроме Пети, но кто-то с другого костра кричал: «Чего ты тут мерзнешь? Лети к своей проблядушке, пусть согреет». Вообще все местные чего-то орали, а мы, московские, не понимали, про что орут». Ясно, что такая конкретика («иди к своей…») не могла быть адресована приехавшим из Москвы незнакомым ребятам, за ней скрывалось нечто такое, что известно только тем, кто в нее посвящен.
Если версия эта верна, то и правда — удар Петушка, вступившегося за непорочность любимой сестры, выглядел бы как месть (какие там хулиганские побуждения!) и лишил бы защиту вообще какой-либо пристойной позиции. Даже не о чем было бы спорить… Но эта опасность мне вряд ли грозила: зная истину, я бы все повернул по-другому. Была (и осталась) в законе иная формулировка: убийство, вызванное тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Наказание за него предусмотрено более мягкое. Намного более мягкое. Только вот ведь какой вопрос: признал ли бы суд крик Луганского — кстати, надо было еще доказать, что точно Луганского, а не кого-то другого, — признал ли бы он этот крик оскорблением? Тем более — тяжким? Пришлось бы раскрыть тайну, которая, как теперь очевидно, тайной была не для всех, но оставалась — брезгливости ради — темой запретной. Молчаливый такой уговор: об ЭТОМ ни слова…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу