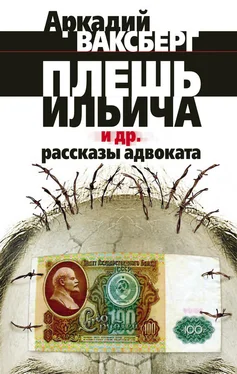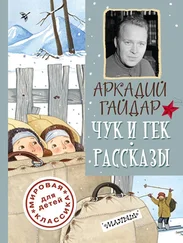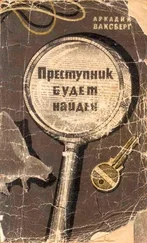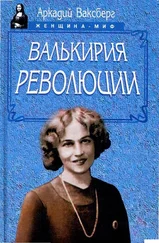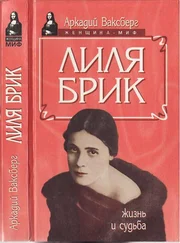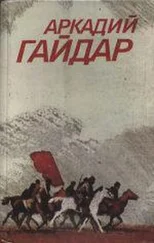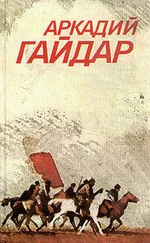Итак, в мерзлом грунте далекой тундры сохранилось тело легендарного боцмана. Эта находка не могла не реанимировать давнюю версию, снова пробудить к ней интерес. Лисовский решил разыскать героев полярной драмы. В Енисейске ему удалось найти вдову Бегичева Анисью Георгиевну, а Натальченко он отыскал вроде бы «неподалеку» — в Курейке. Некогда там отбывал ссылку великий вождь всех народов, откуда благополучно «бежал», и не раз, под носом у нерасторопной царской полиции. Теперь там же, в том же качестве ссыльного, пребывал Василий Михайлович, осужденный по доносу — нет, отнюдь не за убийство Бегичева, а за «антисоветские высказывания». Вот что годы спустя написал мне об этой встрече обличителя и жертвы врач-хирург из города Щекино Тульской области Павел Владимирович Чебуркин, угодивший в Курейку за такие же «грехи» и деливший с Натальченко общую судьбу «разоблаченных махровых антисоветчиков»:
«Я, наверно, единственный, доживающий свой век, друг Натальченко, оказавшийся рядом с ним в самую трудную пору его жизни. Оба мы пали жертвами проклятого культа личности. Меня просто оговорил завистливый коллега, а Василия Михайловича погубил его открытый, честный характер, который не позволял ему смиряться с тупостью, несправедливостью и враньем. Он вслух говорил то, что думал. А ведь тогда было как? Что-то покритиковал, выразил недовольство чем-то — значит, враг народа. И судьи поверили доносчику-клеветнику, такая была установка. Да что говорить, сами знаете, какое было время. Василию Михайловичу повезло: ему дали не лагерь, а ссылку, и определили счетоводом при главном бухгалтере строительной конторы Зильберштейне и бухгалтере Якубовском, бывшем инструкторе знаменитой Гатчинской летной школы. Все трое (то есть и Натальченко тоже! — А. В. ) были люди высокой культуры, настоящие русские интеллигенты. И вдруг заявляется к нам писатель Лисовский. «А, так вот где скрывается убийца Бегичева! — кричал он. — Я это дело так не оставлю. Какая тема! Я ее разовью, роман напишу — будет похлеще, чем «Два капитана». Тот же мотив: завоевать сердце женщины, убив ее мужа! У меня есть доказательства». Все это он говорил, выступая в клубе, при большом стечении публики. Вызвали Натальченко, попросили и его рассказать о Бегичеве и его смерти. Страшно было смотреть, как, со слезами на глазах, Натальченко начал свой рассказ, потом разрыдался — и ушел. «Как играет!» — закричал Лисовский…»
Узнав о том, что в мерзлом грунте сохранилось тело, Натальченко снова стал настаивать на проведении экспертизы. Но какие могли быть для этого основания? Что появилось нового: показания свидетелей? документы? улики? Какие, неведомые давнему следствию, факты могли бы поколебать выводы, к которым пришли юристы в конце двадцатых годов?
Факты нашлись.
Казимир Лисовский не терял надежды отыскать в Авамской тундре живых очевидцев. Преодолев в сорокаградусные морозы сотни километров на оленях, он встретился на фактории Ново-Рыбная с близким родственником Манчи Анцыферова — Егором Титовичем Ереминым. Самого Манчи уже не было в живых.
Ничего нового Егор Титович не сказал, но полностью воспроизвел показания Манчи, которые тот дал на следствии. Он слышал его рассказы множество раз и запомнил их во всех деталях. Косвенно этот факт подтверждал достоверность версии Манчи: выходит, и близким людям, которым он полностью доверял, и следователю Боровскому говорил одно и то же.
Факт этот, однако, был слишком незначительным, чтобы в архивном следственном деле мог произойти какой-либо поворот. Неутомимый Лисовский продолжал поиски. По совету Еремина он отправился на факторию Усть-Авам. Там его познакомили с 93-летним Гавриилом Варлаамовичем Портнягиным. «Когда он начал рассказывать, — писал впоследствии Лисовский, — я невольно вздрогнул. Я понял, что нашел того человека, которого искал. Стало ясно, что Гавриил Варлаамович много знает, многому был свидетелем».
Придавая рассказу этого «бодрого старика среднего роста в шапке, в фуфайке» значение не только историческое, но и юридическое, Лисовский пригласил «понятых». Для этого пришлось совершить еще один многокилометровый переход по скованной морозом тундре: поэту непременно хотелось, чтобы роль «понятых» исполняли партийные вожди местного разлива. В присутствии секретаря райкома и прочего начальства Портнягин и вел свой рассказ.
Он почти ничем не отличался от рассказа Манчи, но Портнягин воспроизводил события тех далеких дней не с чьих-либо слов, утверждая, что сам был свидетелем гибели Бегичева. По словам Портнягина, Бегичев взял его в артель на пути к мысу Входному, когда проплывал по речке Пойтурме — притоку Пясины. Там стоял чум Портнягина. Увидев, как ловко плотничал дед Гавриил, Бегичев принял его в свой коллектив, чтобы чинить санки и лодки, рубить избу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу