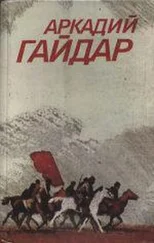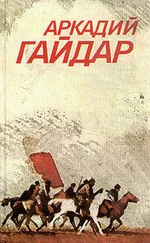— Первый раз слышу, — зло отреагировал мой собеседник, — что врач получает от больного указания, как тому надо его лечить. Лекарство может не нравиться, но, если оно помогает, его вводят в организм принудительно. Ваша задача вылечить своего пациента, и выбор лекарства за вами, а не за ним. И мы его выберем вместе!
Все-таки был он не такой уж отпетый болван, этот полковник и кандидат.
В кабинет для свиданий Бутырской тюрьмы привели худощавого паренька с уже пробившейся редкой щетинкой-пушком, к которому пока что еще не прикасалась бритва. На нем была иноземная курточка из модной тогда синтетики, давно пережившая свою свежесть, а на ногах поношенные кроссовки, гэдээровского, видимо, производства, но купленные давным-давно — на вырост — в ларьке военного городка. Его невзрачная, подростковая фигурка резко контрастировала с лицом взрослого человека. Взрослость подчеркивали широко распахнутые глаза стального цвета, пронзающий взгляд и крепкое рукопожатие, которым мы обменялись, вопреки негласным, но непременным тюремным правилам: а вдруг, не ровен час, адвокат передаст таким образом арестанту чью-то записку, или пилку (пилок очень боялись), или — страшно подумать! — отраву.
Приведший его конвоир безусловно заметил рукопожатие, но ничего не сказал, оставив нас наедине. «Наедине» — это было, разумеется, мифом, микрофоны вовсю работали уже и при тогдашней, не слишком высокого уровня, технике, это знали и я, и Ким Корольков.
Следуя напутствию, которое дал мне отец, я рассказал ему о тетрадке. Ответом было долгое, удручающе долгое молчание. Оно прервалось вопросом, который меня озадачил:
— Вам в вашей жизни довелось встретить хоть одного человека, которому вы полностью доверяли и который вас не подвел?
Разговор на общие темы под микрофон не входил в мои планы, я с нарочитой сухостью снова спросил: будем просить о приобщении или не будем? Он махнул рукой, сказав, что от его воли все равно теперь ничего не зависит, делать с ним (с ним — не с тетрадью) можно все, что угодно, позиция его останется неизменной, а все остальное его не интересует.
— Учтите, ни на один вопрос я отвечать не буду, скажу только, что подтверждаю те показания, которые дал на следствии. И ничего больше.
— Вы убьете своего отца, — напомнил я ему. — Не слишком ли много будет убитых?
Ким вскинул на меня свои распахнутые ресницы, потом сузил взгляд:
— Много не будет.
Как хочешь, так и понимай.
Сам процесс интереса не представляет. Разве что одна очень красочная деталь. Я попросил приобщить к делу злосчастную ту тетрадку, обвинитель не возражал, и суд, не зная еще о ее содержании, безропотно ходатайство удовлетворил. Лишь в тот момент, когда я понес тетрадку к судейскому столу, она вдруг показалась мне похудевшей. Тетрадка оставалась у отца до начала процесса, и он, как оказалось, времени зря не терял: первой части там уже не было! Хорошо, что, по своей привычке, следуя опыту мамы, старейшего адвоката, я всю ее успел переписать — благо текст не был велик. Военный прокурор и инструктор ЦК не счел постыдным утаить от суда то, что могло бы повлечь за собой нежелательные последствия. Нежелательные — для него самого вряд ли меньшие, чем для сына. По-человечески был, разумеется, прав, но с партийной этикой такой прагматизм вязался не слишком.
Приобщенная тетрадь не произвела на судей никакого впечатления, во всяком случае никак не повлияла на предначертанный приговор. Читать, возможно, и прочитали, но и виду не подали, что сатирические панегирики военруку их (судью и заседателей) как-нибудь взволновали и побудили хотя бы почувствовать всю уникальность этого, скучного лишь для тупиц, уголовного дела. И ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, как я и предвидел, отклонили — с той самой формулировкой, которая была на поверхности: нет никаких оснований.
Приговор был… Хотел написать: мягкий, но вправе ли судить о мягкости тот, кто сам не испытал кошмар несвободы в советском Гулаге? С другой стороны, ничем не спровоцированное убийство того, кто ни в чем перед убийцей не провинился, да будь он хоть трижды зануда и кукла, — может ли оно быть прощено? Словом, дали мальчишке «всего-навсего» восемь лет, учтя, естественно, возраст и первую судимость (так и написано в приговоре).
Отец не осмелился явиться на суд в полковничьем мундире, предпочтя его мятому пиджаку, за все время процесса не обменялся со мной ни одним словом, молча выслушал приговор, буркнув мне на прощанье:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу