На рассвете следующего дня, воскресенья, снова проснувшись от оглушительного пения птиц, с первыми лучами зари мы продолжили путь, преодолевая боль всех косточек и мышц наших затекших тел.
До пятой планетной орбиты мы добрались, когда солнце было в зените. Капитан объявил нам, что мы повернули больше чем на двести градусов относительно исходной точки пути, так что нам оставалось уже меньше половины оборота, чтобы завершить полный круг. В коридоре Венеры ее символ, выполненный из красновато-бурой меди, повторялся только двадцать два раза. Но б о льшая неожиданность ожидала нас в следующем коридоре, который, как и предыдущий, уже не представлялся нам двумя прямыми, сходящимися там, где терялся взгляд, а являл собой полукружия, заметно изгибавшиеся влево. Так вот, едва переступив порог и войдя в этот круг Солнца, мы с удивлением заметили, что теперь над нашими головами боковые стены, которые стояли уже так близко друг к другу, что самый крупный из нас, капитан Глаузер-Рёйст, мог двигаться вперед, только повернув плечи, соединяла теперь колючая крыша из ежевики и чертополоха. Еще до того, как мы нашли первый из символов, рукава куртки Фарага уже были разорваны, а мне приходилось глядеть во все глаза, чтобы как-нибудь не наткнуться на пару сотен этих ужасных булавок.
Да, первый символ появился почти сразу: простой круг с еще более простой точкой в середине, но из чистого золота, чистейшего золота, которое даже в тесном полумраке коридора поблескивало в том скудном свете, которому удавалось пробиться сквозь заросли. Если бы мы не находились в таком бедственном положении, когда со всех сторон нам грозили длинные шипы, рвущие нам одежду и царапающие кожу, мы бы наверняка остановились полюбоваться таким сокровищем (потому что всего мы насчитали пятнадцать таких символов Солнца), но мы очень торопились выбраться оттуда, добраться до какого-нибудь места, где можно спокойно двигаться, не боясь уколов и вызываемых крапивой ожогов, и, кроме того, над нами сгущалась ночь.
В ту минуту мы испытывали настоящую панику при мысли о том, что нас ждет за дверью седьмой и последней планеты, Луны, но почти невероятная действительность превзошла любое наше предположение, каким бы ужасным оно ни было. С самого начала железная створка двери, словно натыкаясь на какую-то преграду, еле открылась настолько, чтобы дать нам с трудом протиснуться внутрь; но препятствием оказались заросли на стене против двери: проход был теперь так узок, что лишь ребенок мог бы пройти по нему, не оцарапавшись. Колючая изгородь стены и потолка была обрезана так, что в центре оставался проход, напоминавший формой человеческое тело, так что, когда мы шли, наши головы оказывались в окружении двух рядов острых шипов, сходящихся вокруг шеи, и нам ничего не оставалось, как идти вперед этой дорогой. Поскольку Фараг и капитан были выше и шире прорезанного прохода, подходящего мне, как облегающий костюм, я настаивала на том, чтобы отдать им мою куртку и свитер, чтобы они, по возможности, защитились от ужасных царапин, которые их ожидали, а сверху накрыть их, особенно капитана, походными одеялами. Однако Фараг наотрез отказался закутываться.
— Нам всем придется оцарапаться, Басилея! — сердито крикнул он. — Ты что, не понимаешь, что в этом заключается испытание? Это часть плана! Почему ты должна страдать больше нас?
Я пристально посмотрела ему в глаза, пытаясь передать ему всю свою решимость.
— Послушай меня, Фараг: я только оцарапаюсь, а у вас будут очень серьезные раны, если вы не закутаетесь во все, что только найдете!
— Профессор Босвелл, — прервал меня Кремень, — доктор Салина права. Возьмите ее куртку и укройтесь ею.
— И шапки, — вспомнила я, — натяните на лица шапки.
— Нужно их разрезать. Сделать вырезы для глаз.
— Ты тоже защитишь лицо шапкой, Оттавия. Как мне все это не нравится… — пробормотал Босвелл.
— Хорошо, не беспокойся. Я тоже прикроюсь.
Коридор седьмой планеты был жутким кошмаром, хоть капитан и сказал, что символы на земле, похожие на миски серебряные полумесяцы, были самыми красивыми во всем лабиринте. Он мог их разглядеть, потому что шел первым и нес фонарь, но думаю, что даже если бы я смогла наклонить голову, чтобы на них посмотреть — неосуществимая операция, — мне было бы все равно. Помню, что в своем отчаянии я испытывала желание броситься на колючки, чтобы раз и навсегда покончить с этими сотнями невыносимых мелких щипков, острых уколов, порезов, из-за которых по моим рукам, ногам и даже щекам лилась кровь, потому что не было такой шерсти или другой ткани, которые могли бы противостоять атакам этих кинжалов. Помню, что я чувствовала холодок засыхающих ручейков крови, помню, как пыталась успокоиться, думая, что Христос претерпел мучения на Крестном Пути с терновым венцом на голове, помню, как была на грани отчаяния, бесконтрольной истерики. Однако больше, чем все остальное, помню, как липкая от крови рука Фарага ищет мою. И кажется, именно тогда, в эти моменты, когда я никак не могла контролировать себя саму, я поняла, что влюбляюсь в этого странного египтянина, который, казалось, всегда заботился обо мне и втайне от всех называл меня императрицей. Это было невозможно, но то, что я ощущала, было ничем иным, как любовью, хоть я никогда раньше ее не испытывала и сравнивать мне было не с чем. Потому что я никогда не влюблялась, даже в отрочестве, поэтому никогда не понимала смысла этого слова, и у меня не было сентиментальных проблем. Центром моего существования был Бог, и Он всегда хранил меня от этих чувств, которые сводили с ума моих старших сестер и подруг, заставляя их говорить и совершать глупости и нелепые поступки. Но сейчас я, Оттавия Салина, монахиня ордена Блаженной Девы Марии, за спиной которой почти сорок лет жизни, влюбляюсь в этого иностранца с голубыми глазами. И больше я не чувствовала уколов. А если чувствовала, то о них не помню.
Читать дальше
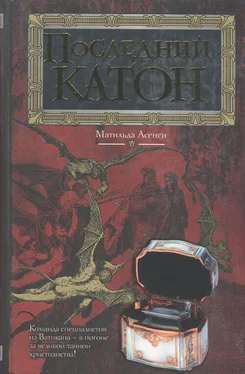


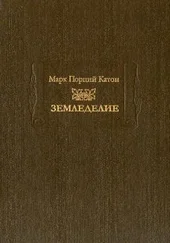




![Айзек Азимов - Последний вопрос [Последняя проблема]](/books/340790/ajzek-azimov-poslednij-vopros-poslednyaya-problema-thumb.webp)


