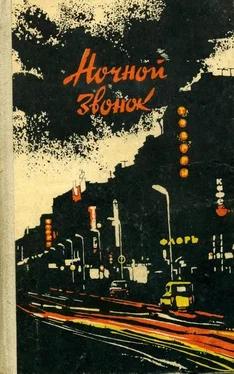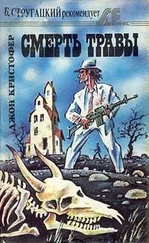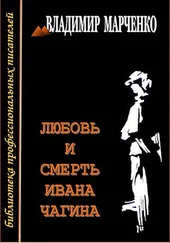И все — уголовники и алтайцы, старцы-скрытники и милиционер по-разному подумали про безвестного варнака-убивца, и всем по-разному стало легче на душе, что вот они-то, худо-бедно, но живут и какое-никакое, а есть у них будущее и мало ли как повернется еще судьба, и только Марченко упрямо з н а л свое и их будущее и не хотел никаких сомнений…
Чудно: по-разному взятые им люди, всяких пределов преступности, они только что морально были на его стороне в поединке со скрытниками, словно даже уголовники были более умными и понимающими, чем сами «старцы», они даже гордились, что самим Марченкой «повязаны» — честь, которой эти темные фанатики и оценить-то не могут! А сейчас даже старцы были как бы допущены в этот странный эфемерный «коллектив» задержанных везучим и удалым милиционером, объединенный общим благородным презрением к самом недостойному из них, предавшему даже звериную уголовную дружбу, нарушившему даже волчьи законы их, и потому подохшему какой-то по-особенному презренной смертью.
Но даже и такого смутного намека на мимолетную тень общности не желал Марченко! И не только потому, что боялся потерять бдительность, расслабиться — он знал, что бесконечная напряженность не менее опасна, — он хотел только обнаженной и беспощадной ясности: люди, совершившие тягчайшее преступление перед Родиной во время войны, имеют дело только с Законом, и он, Марченко, представляет собой праведную и жестокую неотвратимость исполнения Закона. Вон с алтайцев уже пообдуло за эти дни налет придурковатости, задумываются впервые, может, не только о ждущей их тяжкой ответственности, но и о тяжести непростимых грехов своих. Скрытников вряд ли сломишь, но в темные головы их, похоже, вкрадывается мысль о неизбежности «покориться и постраждать», да и не примут, отринут они любую мягкость «анчихристова слуги». Уголовники… Брезгливого презрения к ним Марченко, и захоти, так не мог бы преодолеть. Марченко чувствовал себя не только бесконечно выше всех их, но и бесконечно сильнее ч и с т о т о й нечеловечески трудных обязанностей своих и не смог бы унизиться до физической жестокости даже к самому подлому из варнаков. Но зато и не мог, и не хотел даже намека на душевное сочувствие, даже на внешнее понимание их горькой доли. Потому и обдумывал хлесткий, как удар бича, ответ на н е в ы с к а з а н н у ю близость их к нему и даже обрадовался мертвому голосу Косого:
— А всех-то нас и ты, Марченко, не переловишь. Сколь нас по тайге непойманных, один воровской бог знает…
Из гроба тянул руку за своими Косой!
— Вас-то много? — облегченно захохотал Марченко. Так он от души хохотал, что сладостные слезинки из глаз выкатились на корявые щеки его, и арестантам от этого стало страшней и тоскливей, чем от его грозного давешнего предупреждения. — Да вас круглым счетом, — еле остановил он богатырский хохот свой, — по всей тайге было менее полусотни, вместе с набеглым ворьем и чужедальними дезертирами! А было выловлено до моего ухода сюда в тайгу — тридцать четыре! Да вот теперь себя присчитайте, а ведь я вас взял в самом глухом месте, глуше нету! Ну-ка, прикиньте для себя, дивно ли вони вашей осталось по глухим углам? Э-ех, вы, говнюки! — Конечно, он не Косому отвечал, он для всех остальных, а больше — для алтайцев говорил, Марченко.
— Да только в сибирскую дивизию от нас из аймака более тыщи добровольцев ушло! Средь них до трети, пожалуй, алтайцев, а — велик ли народ численно-то? Да ведь это кроме мобилизованных и призывников! Какое же соотношение-то получается, улавливаете? А таких темных углов, как наш, по всей стране, поди, больше нет. И — что же вы такое в данных обстоятельствах? Мушиное сранье на ламповом стекле, не вглядись, так и не заметишь, а мы его вот протираем до чистого блеску! Нонче мы тайгу очистим полностью и в-вони вашей по логам не учуять! Это я вам говорю ответственно! Вот как сейчас, после нашего ухода, будет по Согре-реке и по ее притокам!
Великое презрение открыто звучало в Марченковых словах и брезгливая подавляющая сила была в них! Коротко и недалеко раскатилось мрачное эхо Марченкова хохота, и в вечернем морозном безмолвии родилась и овладела всеми задержанными едучая и давящая душу тоска…
Пантелей только что по приказу Марченки свалил три добротных сушины на костер, разрубил, приволок к огню. Одна сушина была осиной, высохшей на корню, со сплошным дуплом вдоль ствола, как большая деревянная труба. Наложил Пантелей в эту трубу мелких дров — готова нодья! Раньше бы радовался Пантелей такой находке для зимнего ночлега — сейчас радоваться было нельзя. Тяжело было на душе, совсем тяжело стало после беспощадных Марченковых слов и могучего, как у Хозяина тайги, хохота.
Читать дальше