— Да вроде бы она приехала как туристка.
— В Осло?
— Нет, мне кажется, они здесь встретились. Я знаю, что Сверре был очень высокого мнения о Николь. Альма-то мало что говорила. Вообще была более молчаливой, знаешь ли. Николь была… впрочем, давай-ка сосредоточимся на похоронах.
— А что за человек была мама? Расскажите.
Таллауг откашлялся, отвернувшись.
— Ну, да что тут, собственно, скажешь… Когда я увидел ее в первый раз, она знала всего несколько слов по-норвежски.
— А позже как?
— А?..
— Вы сказали — в первый раз. А в следующий что?
Пастор начал ковырять пальцем скол на кофейной чашке. Я наблюдал за изменениями его лица, не понукая. Выпрямившись на стуле, он пристально смотрел вниз, на стол, как будто там лежала Библия, с которой пастор хотел свериться перед проповедью, хотя и прекрасно знал, что там написано.
Больше он ничего не сказал.
Мне хотелось услышать о матери больше. Но расспрашивать других о том, какой же, собственно, была твоя мать, и больно, и стыдно.
— Вот насчет похорон, — сказал священник. — Ты про гроб слышал?
— Сын Раннвейг Ланнстад проговорился, — кивнул я. — Это что, дедушка сам себе выбрал гроб?
— Да, гроб уже долгие годы стоял наготове.
— Он никогда ничего про это не говорил.
— Потому что не знал.
Я с такой силой надавил столовым ножом на картофелину, что сталь звякнула, ударившись о фарфор.
— Он этого не знал?
Таллауг покачал головой.
— Так кто же это устроил? Альма?
Пастор почесал пальцем в уголке глаза.
— Эйнар. Он сколотил гроб для своего брата.
— На тот случай, если б дедушка погиб на Восточном фронте?
— Да нет, это было позже, пожалуй.
Магнус как-то смешался и принялся протирать очки тем же носовым платком, в который до этого высморкался. Я вдруг испугался, что у него начался маразм и он может напутать что-нибудь во время похорон.
— Скажи-ка, — вновь заговорил пастор, — ты вроде как фотографией увлекаешься?
— Дa, — сказал я, не решившись спросить, откуда он знает об этом. Может быть, это дедушка про меня рассказал? Он что, знал, чем я занимаюсь в березовом лесу?
— Что-то в тебе есть и от Эйнара, — сказал Таллауг. — Он умел воспринять форму увиденного и воспользоваться ею в совершенно иной связи. В этом отношении Эйнар был совсем не похож на Сверре. Эйнар на свой лад истолковывал все происходящее, он был мыслителем и фантазером.
— Так, и когда же он сделал этот гроб? — спросил я.
Взгляд у пастора стал каким-то далеким. По его ответу было понятно, что мой вопрос прошел мимо его ушей.
— Эйнар, он для нас пропал, — сказал священник. — Два раза пропал. Лучший столяр-краснодеревщик в деревне. Один из лучших во всем Гюдбраннсдале.
— Даже считая Шок? — уточнил я.
— Даже считая Шок.
— Так он пропадал два раза?
— Гм, — сказал Таллауг. — Это так быстро не расскажешь. Времени-то сколько уже? — поинтересовался он, доставая еще один очечник и надевая другие очки.
— Скоро три, — сказал я.
— Мне надо быть дома в четыре часа, принять таблетки.
— Тогда я вам потом напомню.
— Напомни. Хотя, знаешь, мой пасторский трудовой день заканчивается только через четверть часа.
И Магнус повел речь о блудном сыне нашей деревни. Когда он говорил об Эйнаре, создавалось впечатление, будто он рассказывает и обо мне . Не совсем обо мне, но о таком человеке, каким я мечтал быть. Только карандаш для рисования сменился фотоаппаратом, а столярная мастерская — фотолабораторией.
Эйнар не проявлял интереса к обычному школьному образованию. В тетради, которую он вел на уроках подготовки к конфирмации, многие предложения были не дописаны, зато на полях пестрели наброски мебели, домов, городов и снова мебели.
— Что я мог сказать? — Пастор вздохнул. — Чтобы он прекратил это делать? Сказать так парнишке из Саксюма, в двадцать восьмом году мечтавшем освоить художественное ремесло? К счастью, родители признали его талант, хотя он по старшинству и должен был унаследовать хутор и работать на нем, и отправили его в Ерлейд учиться на краснодеревщика. Способности у него были выдающиеся, а жажда экспериментировать настолько сильна, что даже самым снисходительным педагогам казалось, что они не дают ему развернуться.
Через пару лет, продолжал Таллауг, Эйнару прискучило рисовать акантус и делать мебель на вкус местных толстосумов. И он отправился учиться в Осло, но так же быстро разочаровался. К этому времени Эйнар давно уже начал помечать свои работы изображением белочки, прикрывающей мордочку хвостом, и сохранил этот знак на всю жизнь. А в 1931 году, когда ему едва стукнуло семнадцать, он отправился искать работу во Францию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



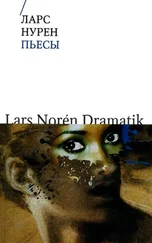
![Григорий Аросев - Шестнадцать карт [Роман шестнадцати авторов]](/books/195408/grigorij-arosev-shestnadcat-kart-roman-shestnadcat-thumb.webp)







