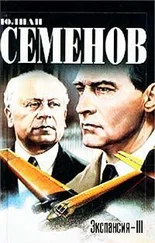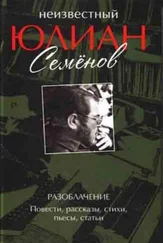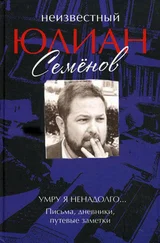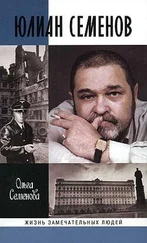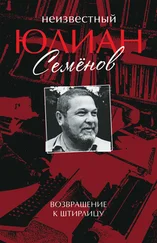Модно эту музыку бранить. Куда как труднее в ней разобраться. Меня потрясла реклама одной из пластинок такого рода. На прекрасном глянцевом картоне фотомонтаж: вполне респектабельный мужчина (таких обычно заставляют позировать перед камерой с бутылкой „Балантайна“ в руке — „эстеблишмент“, с улыбкой и дружеством пожимает руку человеку, объятому пламенем. Причем этот, горящий, тоже старается улыбаться, но в лице его заметно нечто страшное, пепельное (поразительно это шолоховское: „глаза, присыпанные пеплом“!).) Разве это не есть пропаганда безысходности и отчаяния?
…Даже если вы придете в один из этих маленьких баров, что возле университетского городка, засветло, когда еще не включены фонари и угадывается в прекрасном мадридском небе багрянец, в котором чувствуется присутствие голубых снегов Сьерра Гарамы, — все равно в баре полутьма, ни одного окна, никакой вентиляции, слоится тяжелый дым, пол завален окурками.
Вот вошли трое: девушка лет шестнадцати, с нею малыши — лет десять мальчику, девчушке того меньше. Взяли бутылку „коки“ на троих, малыши ликуют, пьют дозированно, блаженными глотками. Девушка затягивается черным „дукадо“. Нога ее выбивает ритм, сначала осторожно, настраивающе, а потом она закрывает глаза, откидывается на подушку — теперь в такт музыке стремительно движутся ее руки, стиснутые в кулачки, а потом малыши начинают плясать, подражая взрослым, бессмысленно, а потому невероятно страшно повторяя все движения. Девушка будет сидеть здесь час, три, пять, и дети будут танцевать, потом они станут ловить ртом табачный дым, и лишь когда к их сестре подойдет парень (или мужчина, или двое мужчин) и протянет ей окурок, и она жадно затянется марихуаной (или героином, или тертым кокаином, или коноплей), и он что-то шепнет ей на ухо, и она, погладив малышей, скажет им, что скоро вернется, и уйдет развинченно, — вот тогда только маленькие перестанут танцевать и сделаются тихими, испуганными, беззащитными. И они прильнут к тебе, когда ты спросишь для них еще одну бутылку „коки“, ту, единственную, они уже выпили, хотя растягивали удовольствие многие часы, и станут отвечать на твои вопросы доверчиво, чисто, но — и это страшнее всего — понимающе. Они понимали, почему ушла их сестра Эсперанса, они знали, что после трех затяжек белым люди начинают смеяться беспричинно или очень громко спорить, „такие смешные, просто обхохочешься на них глядя“, а потом они попросят разрешения пощупать ваши руки — сколь вы сильны. Малыши уважают сильных, ибо окружают их люди развинченные, ломкие, усталые, тяжко собирающиеся по утрам. Малыши уважают силу, хочу повторить это. (Скомпрометировать поколение, целое поколение разложить его, сделать лишним, и на этой трагедии возвести идеал силы, когда человек будет казаться верхом совершенства, если не курит марихуану, всего лишь — таков, видимо, план, разработанный пекинскими стратегами. Но это — бумеранг, поскольку Система не хочет поклоняться „идеалу пекинской силы“, у Системы свои отвратительные „идеалы“. И в противовес „развинченным“ воспитывают холодноглазых ненавистников, подозрительных, отталкивающих все непонятное, расистов, полагающихся более на автомат, чем на собеседование. Американская провинция ныне — а она громадна — рекрутирует в ряды „холодноглазых“ сотни тысяч добровольцев, и это очень страшно, ибо мещанство угрожает цивилизации вне зависимости от того, на каком языке оно говорит. Впрочем, есть ли язык у мещан? Если рассматривать язык как средство для обмена идеями, то есть новым, он отсутствует, обмениваются привычным, нового страшатся, бегут его, а если не удается избежать — запрещают, шельмуют, издеваются над ним. Хочу вспомнить одно высказывание: „Худшая черта нашей культуры заключалась не только в полной импотентности художественного и общекультурного творчества, но и в той ненависти, с которой стремились забросать грязью все прошлое. Почти во всех областях искусства, в особенности в театре и в литературе, у нас на рубеже XX века не только не творили ничего нового, но прямо видели свою задачу в том, чтобы подорвать и загрязнить все старое. В этой связи опять приходится указать на трусость той части нашего народа, на которую уже одно полученное ею образование возлагало обязанность открыто выступить против этого опозоривания культуры. Наша интеллигенция из чистой трусости не решалась этого сделать. Она убоялась криков апостолов большевистского искусства, которые, конечно, обрушивались самым гнусным образом на каждого, кто не хотел видеть перл создания в произведениях этих господ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Юлиан Семенов ...При исполнении служебных обязанностей. Каприччиозо по-сицилийски [Романы] обложка книги](/books/420963/yulian-semenov-pri-ispolnenii-sluzhebnyh-obyazannostej-kaprichchiozo-po-sicilijski-romany-cover.webp)