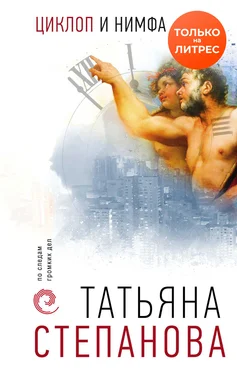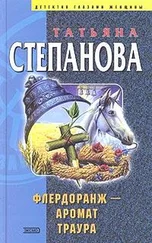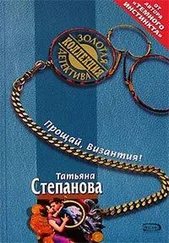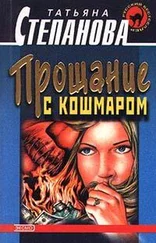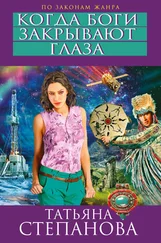– Это твой муж его довел. Это Макар виноват!
В гостиной, куда направились Катя и Мамонтов, кипели нешуточные страсти. На диване в ленивой расслабленной позе возлежала, опираясь локтем о подушку, Меланья, уже успевшая переодеться из спортивного костюма в длинный свитер с открытыми плечами, тоже желтый, и модные потертые джинсы. Изящные босые ступни ее демонстрировали идеальный педикюр (яркие цветные мюли от Дольче Габбана валялись на полу) и притягивали как магнит взор Ярослава Лишаева, который расхаживал по гостиной, яростно жестикулируя и полыхая багровым румянцем обрюзгших щек.
– Филин, я устала от твоего базара, – Меланья увидела остановившихся в дверях Катю и Мамонтова. – О, фонд, наш благодетель и строгий судья. Заходите, заходите, стильные молодые люди. У нас тут маленький домашний раскарданс. Вот он, – она указала в сторону Лишаева, – обвиняет моего мужа в том, что он скверно вел себя с отцом. Я думаю, вы уже наслушались здесь этих сплетен.
– Да, мы слышали, – коротко ответил Клавдий Мамонтов.
– Обличителей много. Вот, например, Филин… Ярославик, моя прелесть, – Меланья улыбнулась Лишаеву. – Любит учить, как нам жить и что делать. И не только меня, но и всю страну учить хочет. Знаете, Филин ведь слетел к нам с далеких уральских гор читать нотации о том, что нам хорошо, а что вред. Что надо немедленно запретить. Вымарать, придать остракизму. Потому что это непатриотично. Да, Филин? И в институте так было – мы однокурсники с ним по МГИМО. Кстати, с нами учился один известный оппозиционер, имя которого под запретом, – Меланья усмехнулась. – А Филин по простоте душевной не так давно брякнул, что он много чего знает про этого супостата. Ну, всяких бяк. Но не сказал, что именно. А потому что испугался – ведь мы, однокурсники, тоже в этом случае вспомним кое-что интересное из твоей бурной пролетарской биографии, когда тебя буквально из жалости взяли из плебейского уральского вуза и пристроили в «международные отношения» – мол, пусть рабочий паренек разбавит московскую ядовитую тусовку и будет потом предан и лоялен по гроб жизни. Уж таким холопом станет верноподданным, что…
– Меланья! Я не холоп и холопом никогда не был! – загремел багровый Филин Ярославич.
– Ой, ой, не кричи, радость моя. Но ты же так ценишь все это – власть, связи, покровительство свыше, весь этот имперский шик, весь этот чертов уклад. Пусть не холопски, но как истинный плебей. Пролетарий уральский, потомок молотобойцев, – Меланья смотрела на него почти нежно. – И как бы ты ни старался, какие бы крутые тачки себе ни покупал, какие бы костюмы в Лондоне на заказ ни шил, ты все такой же рабочий, уральский кондовый рабочий. Не быть тебе барином, Филин. И часики дорогие не поправят общего впечатления этакого дремучего провинциала с воспаленным самомнением. Кстати, про часики… ты как-то с высокой трибуны хвастался – сколько их у тебя – на сто миллионов или больше? И все в сейфе? Ой, какая жалость, а? Такое богатство, а носишь только одни. Но ведь две руки у тебя, Филин. Можно надеть на каждую руку по двое-трое часов! И, знаешь, папуасы, – Меланья привстала с дивана, – те, которых мы в Меланезии видели, когда на яхте плавали с Саввой Стальевичем, они оказались ушлые и предприимчивые – они такие дырки в ушах проделывают большие и вешают в мочки все свои сокровища. Так и ты – проделай дырки в ушах и повесь там еще парочку своих швейцарских драгоценных «турбийонов». Чтобы мы видели, какой богатый шикарный уральский пацан с нами в Москве базар фильтрует, да?
Меланья жестоко издевалась над Лишаевым. А тот не посылал ее, не убегал, не хлопал дверью. Даже не огрызался на нее. Терпел, лишь все сильнее багровел лицом, словно свекла. Катя отметила это про себя.
– Ты все обо мне, – выдавил он хрипло. – А про мужа ни словечка, выгораживаешь его всегда. А то, что он во всем виноват, что мы оказались в такой ситуации – здесь, чуть ли не под арестом, без паспортов… В качестве чуть ли не подозреваемых! Чуть ли не отравителей! А не было никакого отравления – это твой дражайший довел своего отца до самоубийства! Я что, не помню тот вечер злосчастный? Ты все надо мной насмехаешься, а ты с Макара своего сначала спроси. Как он с отцом повел себя? Савва его без памяти любил – мне ли не знать. А твой муж… Он законченный эгоист. Он алкоголик!
– Не смей говорить о моем муже такие вещи! – прошипела Меланья.
– А с чего это вдруг я не посмею, когда это правда святая? – Филин Ярославич повторил свое любимое изречение. – Пусть и они фонд слушают. Про меня вон прослушали твои оскорбления. Пусть и про него услышат правду. И про Савву тоже пусть слушают – о покойниках, конечно, только хорошее, но вот характер-то у покойника был тот еще. Дерьмо – характер. Он как удав всех душил – кого заботой своей, кого любовью, кого капризами своими, кого приказами, повелениями. Привык в департаменте холопами помыкать! Я что, не помню, что ли, – когда при нас здесь Эдичка взвился, в истерику впал – визжал, что Савва достал его своими нравоучениями, что он возьмет ему и в чай очистителя для труб плеснет? Не было, что ли, этого? Эдичка-губернатор спятил на госслужбе, у него мозги, как плавленый сырок. Но и он не выдержал всех этих Саввиных вывертов!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу