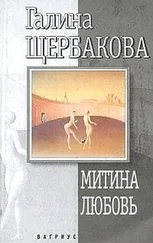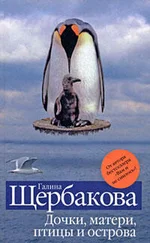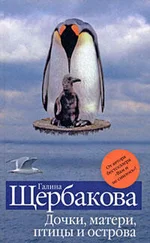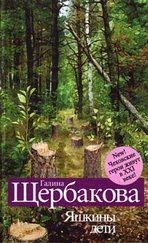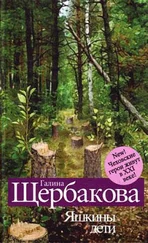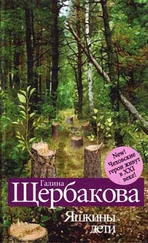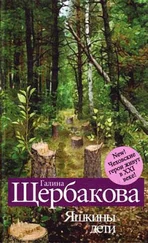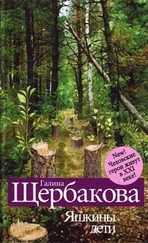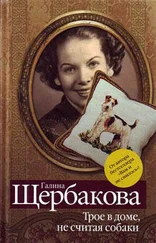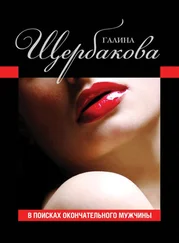Та, раньшая, уже не боялась ничего. Что может быть страшней гибели матери, а у нее это уже случилось.
У этой же, что сидела на руках, погиб отец. Но она не знает об этом. И то, что мать у нее — человеческое чудовище, не знает тоже. И пусть не узнает никогда.
Слава богу, деревенька была на месте, окруженная, как артиллерией, строительными ковшами. Дай им команду — и они поднимут ее вверх, старенькую, осевшую человеческую обитель, и бросят оземь. И не останется следов прошлого. Он подумал: «Еж твою двадцать, неужели я в последнюю минуту успел?»
Что такое новые ворота через почти тридцать лет? Многажды прибитые поверху сикось-накось гнилые доски, вопиющие о бедности, колья бывшего забора, замененные рваной в лохмотья рабицей… Он толкнул калитку, и она упала ему под ноги, мол, иди по мне, раз пришел, не велика барыня. Но он ее обошел, и ему навстречу вышла старая псина с жухлой, как осенняя трава, шерстью и слезящимися глазами. Она открыла рот, чтобы тявкнуть, но у нее то ли не получилось, то ли она раздумала, и повернула назад.
— Кто там? — закричала с крыльца старуха.
Но он ее узнал. И если в прошлый свой приезд он увидел в ней маму, варившую варенье в саду, то сейчас он увидел заключенную, выпущенную уже по старости и немощи с пожеланием: «На свободу — с чистой совестью!» Вот она и доживает в этой рабской свободе.
— Оля! — сказал он. — Это я, Никифор.
Она смотрела на него, прямо скажем, тупо и равнодушно. Как и ее собака. Потом что-то в ней проклюнулось, и она насмешливо ему бросила:
— Брат, что ли? Еще одно горе на мою шею, да еще и с ребенком. — Она то ли утверждала это, то ли спрашивала. А из хаты голос мужской и хриплый, как после пьянки, кричал:
— Кто там, мать? По поводу сноса пришли сволочи или еще кто? Всех гони в шею!
Она не дала себя обнять. Когда он пытался протянуть к ней руки, она отстранилась резко, как навсегда.
Он ляпнул это сразу, как бы отвечая ей на самые главные слова — «еще горе на мою шею»:
— Я приехал тебя забрать, Олечка, и сына твоего. У меня есть деньги, не бойся, я не нищий. А девочка эта — погорелица, как и ты когда-то. Теперь она моя. И твоя, если захочешь… Она тоже Луганская.
— Нет, не захочу, — ответила Ольга. — И иди-ка ты восвояси. Я знать тебя не знаю и знать не хочу.
Какой аргумент выдвинешь против этого? А он, оказывается, был…
Слезы полились серым безнадежным потоком. За ним заплакала девочка, уловившая не слова — тон женщины. А он не мог остановиться. Хрюкал горлом, хлюпал носом. Ужас от ее слов, от ее неприятия вернул его в то детство, когда он тащил ее из окна. Как он боялся ее не спасти, потому что что же тогда — один на всем белом свете? И не было мысли, как с ней жить, а была — что без нее ему не жить.
— Оля, прости, что так долго, — выталкивал он из себя мокрые слова, — я загремел в пятьдесят шестом, а потом еще.
Такой безнадежный, неаппетитный аргумент. После этого разве докажешь, что ты не бандит и не уголовник. Мог бы сообразить другие слова о времени человеческой жизни, но не сумел. Беспомощность всяких объяснений ударила прямо под дых, и он подумал: «Вот как не вовремя я, кажется, помру». Но, видимо, это был еще не последний удар в его жизни. Он ухватился за балясинку крыльца, его качнуло, балясинка выскочила и разломилась. Кто-то должен был умереть, и на этот раз это была она, доска. Его же качнуло и выпрямило. Сердце стучало сильно, но ровно. В нем еще было сколько-то жизни. Ищи аргументы, дурак, ищи!
— У меня правда есть деньги, — сказал он. — И хороший дом. Я свободен. Но я не знаю, сколько мне осталось. Там, где я живу, есть хорошие врачи. Все правда, сестра, мне от тебя ничего не нужно. Просто вы с сыном заслужили человеческую жизнь. Это он там? — Он кивнул на халупу. — Я хочу вас забрать.
— Поздно нас забирать, — сказала она. — Нас тут зароют. Тут наше место. Хорошего места на этой земле для нас нет, а если у тебя есть, отдай его этой девочке. Может, у нее и получится пожить по-человечески.
Скрипнула дверь, и на крыльцо на инвалидной коляске выехал мужчина. Он не видел его лица, он смотрел на много раз перепутанное проволокой и веревкой сооружение, на одно колесо от детской коляски и другое, видимо, от велосипеда, тоже детского. Оба колеса стояли уже ободьями. Сколько же им лет?
…Он написал ей перед освобождением в семьдесят пятом. До того он уже списался с Мироном, и тот безоговорочно потребовал его приезда к нему «в людскую жизнь». Он ответил, что должен заехать к сестре. Приезжай с сестрой, ответил Мирон, семья — это главное, если хочешь жить по-человечески.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу