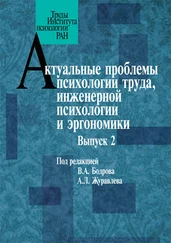Если им до нее дела нет, почему ей до них есть дело? Это, может быть, самый главный вопрос; может быть, это самое главное что ей нужно в жизни понять – не то чтобы специально она над этим задумывалась, просто кажется, что жить было бы чуть легче, если б этот главный вопрос как-то разрешился. Почему в мире нет ни одного человека, который просто не мог бы существовать без Гули – и почему сама она при этом просто не может существовать хоть без кого-нибудь… пусть даже не близкого, родного, понятного, любимого – пусть чужого, который лишь изредка и большей частью спьяну может показаться родным и близким…
Так вот нате вам. Ей тоже никто не нужен больше. Ни безбашенный Пупа. Ни равнодушный Толик. Ни подруги, которых у нее почти не было никогда; ни друзья, которых было еще меньше, чем подруг; ни родители, которых она почти не помнит… Никто.
Гуля утопала в мягкой, безразмерной перине, ей казалось – ее душат. «Никто, – бормотала она в подушку, возносясь до всех возможных вершин пьяной патетики. – Никто, никто, никто, никогда», – и в этом бормотании сквозь пьяные слезы все громче звучали озлобление, остервенение, отвращение; даже, пожалуй, омерзение – стоило ей вспомнить, что постель постелена на двоих. Ядреный бабкин самогон вот-вот закончится, и ненавистный Пупа заявится сюда. И заявит свои права.
В свои семнадцать с хвостиком Гуля не была ни особо целомудренной, ни особо страстной особой. Минуты близости с Пупой, как и с парой-тройкой его предшественников, она скорее терпела, чем наслаждалась ими. А уж в такие мгновения, как сейчас, мысль о его потных и грубых объятиях ничего, кроме омерзения, вызвать не могла. Ничего, кроме омерзения, она и не вызывала. Пусть бы он вовсе не пришел (Гуля опять размечталась), пусть бы вырубился за столом или еще лучше – под столом. Такое уже случалось. Или… или еще лучше – пусть бы он пришел, а Гулю не нашел. Ни в этой комнате, ни в этом доме, ни в этой деревне… она даже хихикнула, вообразив, как вытянется его неприятное тяжелое лицо, когда он обнаружит клетку опустевшей. Да, здорово; жалко, что это только мечты, претворить которые в жизнь Гуля никогда не осмелится.
Впрочем…
Почему? Почему не осмелится? Кто сказал, что не осмелится?
Гуля села в кровати так резко, что ее замутило и голова закружилась еще сильнее, чем минуту назад. Зато соображала голова проворнее, чем минуту назад; во всяком случае, Гуле казалось именно так. Почему?.. Почему не осмелится?.. Кто сказал, что не осмелится, очень даже осмелится. Кто сказал, что это сложно, это очень даже просто: просто встать. Сунуть ноги в шлепки. Тихонько пробраться в сени, подойти к двери. Тихонько выбраться во двор, подойти к калитке, открыть ее – и оказаться на свободе.
Ее потряхивало от возбуждения, и все-таки она никак не могла решиться. И не решилась… не решилась бы, если б не грела так надежда насолить и досадить Пупе. И Толику, наверно, тоже, или Толику – в первую очередь: что имеем не храним, вот поплачьте-ка, потеряв… Гуля прислушалась. Пупа за стенкой бубнил что-то монотонно, Толик молчал. Как обычно. Если она и впрямь хочет покинуть клетку, ей стоит поспешить.
Гуля встала. Сунула ноги в шлепки. Тихонько пробралась в сени, подошла к двери – и здесь ее ждало огромное разочарование. Дверь оказалась запертой на ключ – и, как ни шарила Гуля судорожно в поисках ключа, найти его ей не удалось. Почти рыдая, она уже готовилась смириться с мыслью о возвращении в клетку – и тут услышала шаги.
Она замерла. Заледенела. Сердце ее колотилось так, что грудная клетка ходуном ходила. Она узнала шаги: это шаркает Пупа, пыхтя и икая; уже идет спать? Сейчас… сию минуту он обнаружит пропажу… как страшно, мамочки, что же делать?
Пупа в спальню не свернул. Его шаги направлялись прямо к ней. В сени. Гуля задрожала. Она скажет… она скажет – захотела в туалет; может, еще обойдется.
Он вошел в сени, тоже пошарил где-то за косяком, нащупал ключ, открыл им дверь и вышел на крыльцо. Гулю он не заметил. Она вжалась в угол, вспотев от страха. Теперь она знает, где ключ; лишь бы ей так и остаться незамеченной. А если не повезет? Если он увидит ее? – обойтись-то, может, и обойдется, в басню о естественных позывах он должен поверить, но с мечтой о свободе и мести на сегодня придется расстаться. И, скорее всего, на будущее тоже: Гуля не слишком рассчитывает, что в ближайшее время опять окажется способной на бунт.
Мощный рокот орошающей землю струи донесся до нее: не прикрыв дверь, пыхтя и икая, Пупа прямо с крыльца реализовывал ее байку о естественных позывах. Его оголенная задница мутно белела в темноте. Это мутно-белесое пятно, этот мощный рокот струи, бьющей в землю, породили в ней новую волну отвращения. Она не сможет заставить себя вернуться; не сможет улечься рядом с ним на безразмерную перину, на которой она в одиночестве-то едва не задохнулась. А уж если Пупа, почитающий себя величайшим любовником всех времен и народов, не встретит в ней должного энтузиазма, дело может не ограничиться вызывающими отвращение любовными игрищами. Он даже вовсе может без любовных игр обойтись, пожертвовав ими ради удовольствия поучить Гулю почтению к его персоне… Даже не успев сообразить – что она, собственно, собирается предпринять, – Гуля мрачной тенью скользнула за его спиной. Мягкие шлепки ступали почти бесшумно, и Гуля не боялась, что он услышит ее шаги, – она боялась, он услышит, как стучит ее сердце. Но этого не случилось. Судьба, может быть, впервые в жизни обошлась с Гулей снисходительно: она уже спустилась с крыльца и затаилась во тьме, когда Пупа, закончив процедуру, небрежно стряхнул последние капли с предмета своей гордости и неуклюже развернулся. Дверь закрылась, проскрежетал в замке ключ; несколько секунд Гуля еще слышала, как он шаркает вглубь дома – в горницу или спальню, она не поняла, – потом все стихло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу