Как он обрадовался! «Товарищ Никандров! Я ж сегодня второй раз на свет родился!»
Все мне рассказал.
— Я действительно капитан, родом из Ярославля. Моя настоящая фамилия Фомин, звать — Николай. Отец и мать живы. Были живы, когда их последний раз видел. Оба коммунисты. Жена закончила педагогический институт…
Он много раз повторил «когда последний раз», словно подводил черту своей жизни, там за чертой была жизнь, а сейчас, как он мне сказал, «ничего, одна тоска».
— Но вы не подумайте, товарищ Никандров, что я совсем ослаб и только тосковать могу. Я теперь возвращен вами к жизни.
Рассказал, при каких обстоятельствах попал в плен.
— В мае 1942 года немцы нам под Харьковом накостыляли. У меня на глазах генерал Городнянский погиб. Ко мне на КП батальона немцы утром ворвались…
Я его спросил:
— Как к Власову попал?
— Все по чистой правде расскажу. В каких я немецких лагерях побывал, когданибудь при удобном случае подробнее объясню. А сейчас о последних трех. Пять дней меня держали в лагере неподалеку от Вены — кормили, сволочи, какой-то падалью, потом офицеров — было нас около ста — повезли в Ниенбург, километрах в ста от Ганновера. Из еды — баланда и двести граммов хлеба, тяжелого, будто глина. Люди мерли каждый день. Приехали немец с русским переводчиком. Они еще только с комендантом повидались, а уже слух: вербуют на курсы администраторов для оккупированных областей. Слух такой: два-три месяца подержат на курсах, а потом пошлют в Россию на разные должности. Но сначала предварительная проверка в отборочном лагере. Я как услышал про Россию, сразу — еду! Только бы до Родины добраться, а там…
— Что там?
— Господи! Конечно, бить эту сволочь! Вы понимаете, на что я насмотрелся!.. Короче говоря, попал я в отборочный лагерь, немцы перед моим приездом вторую партию к отправке в Россию подготовили. Ну, думаю, три месяца хоть и медленно, но пройдут, стану я их науку долбить, в отличники вылезу, лишь бы не сорвалось. И как раз сорвалось! Вторую партию никуда не отправили. Сначала объявили — «временная задержку», да разве в лагере что-нибудь скрыть можно? Все узнали. Из первой партии, отправленной в Россию, из ста пятидесяти человек большинство разбежались. Говорили, что от высшего начальства кому-то за выдумку с курсами здорово всыпали. Ну, а нам, кто согласие дал, от этого нисколько не легче, мы и подписку дали, и все прочее.
— Что это — прочее?
— Присягу приняли главному чучелу — Гитлеру. Я, правда, подписался Кудрявцев, а не Фомин, но все равно подписал, да еще вдобавок, когда я присягу давал, меня сфотографировали. Заскучал я основательно, хоть беги в отхожее место и вешайся…
Вдруг нас всех, кто хотел на курсы, из отборочного лагеря выкинули — нечего, дескать, вас, сволочей, лучше других кормить — и перевели в Вустрау. Там наши сразу узнали, кто мы такие, — отношение к нам соответственное, не разговаривают, к чертям посылают. Был у меня знакомый по отборочному лагерю — Володя Шерстнев из Кирова. Вместе в Ниенбурге еще находились. Откровенного разговора между нами не было, но я догадывался, что и он на курсы с той же целью, что и я, определился.
Сидим мы вечером в Вустрау, молчим. О чем говорить? Не о чем.
Подходит к нам человек с палочкой. Нога у него одна, вместо правой — деревяшка. Борода почти до пояса. Глаза умные. Одежонка на нем дрянная, старый мундир немецкий, а вид впечатляющий — в общем, сильная фигура. «Что, курсанты, пригорюнились?»
Слово за слово… Почему мы к нему доверием прониклись, так и не поняли, — как отцу, все выложили. Он говорит: «Положеньице у вас, ребята, аховое, но не безвыходное. Нет таких положений, чтобы без выхода. А повиснуть в сортире — это, ребята, проще простого. Вы же молодые. Конечно, многие из нас, военнопленных, погибнут, но многие выживут и домой вернутся. Большое спасибо, понятно, нам не скажут, поскольку воюют другие, а мы в плену сидим, но все же примут». Наклонился к нам и шепотом: «Слыхали, как наша армия на фашистах шерсть опаливает? То-то и оно!»
Мы к нему: «С кем мы разговариваем?» А он засмеялся и ответил: «Как это с кем? С человеком!» Мы опять: «У человека должны быть имя, фамилия, звание». Он свое: «Самое высокое звание у человека — человек! А наивысшее — советский человек!»
После мы узнали, что разговаривал с нами генерал Лукин… Больше мне его увидеть не пришлось: всех нас, кто был записан на курсы, передали в распоряжение «Русского комитета», на курсы пропагандистов. А дружок мой Володя Шерстнев пропал. Не выдержал — дал в морду одному типу из комендатуры. Между прочим, бывшему кондуктору из Казани. Он и сейчас в Добендорфе, этот гад. А Володю расстреляли.
Читать дальше
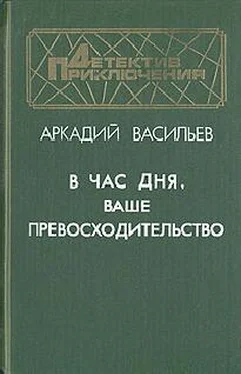

![Аркадий Васильев - Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет [Авторский сборник]](/books/25082/arkadij-vasilev-ponedelnik-thumb.webp)

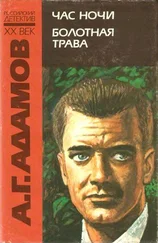
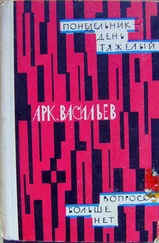

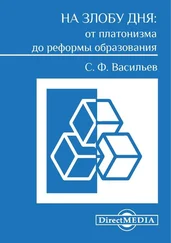

![Андрей Васильев - Час полнолуния [litres, СИ]](/books/417221/andrej-vasilev-chas-polnoluniya-litres-si-thumb.webp)

