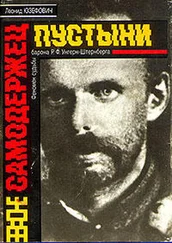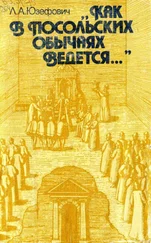— Собак-то на кладбище! Видали? — спросил вдруг директор театра.
Ни к кому конкретно он не обращался, но сразу несколько голосов отозвалось:
— Видали, Авенир Иванович!
— Да-а, развелось их!
— Потому что хоронить стали мелко. Весной вонь стояла, не приведи господи!
— Есть же постановление губисполкома, — сказал директор, — хоронить на глубине не менее трех аршин. А не выполняется! Отсюда и собаки.
— Могилы разрывают? — догадался кто-то.
— Они нынче про нас все знают. Мы озверели, так и зверью нас понять — тьфу! Видят насквозь… Вот в Чердыни был случай. Беляков оттуда выбили, входим в город, пристают к нам два кобеля. Тощие, драные, навоз жрут. И вьются, и вьются! Уж они и так, и так! Отбегут, потявкают, и опять ко мне. Ну, думаю, наводят, не иначе. Пошел за ними. И ведь что? Показали, где пепеляевские офицеры прячутся. А потом давай попрошайничать: плати, мол, командир, за службу.
— И что вы с ними сделали? — тихо спросила аккомпаниаторша.
— С офицерами-то? Да ничего, сдали в штаб. А кобелей этих я сам пристрелил, своей рукой. Что-то мерзко мне на них стало.
— Вечная память борцам за дело революции, — сказал Осипов, доставая из портфеля еще одну бутыль.
Из украденных им у жены денег кое-что, похоже, осело в его кармане и потрачено было не зря.
— Богатырь! — ответил он на просьбу Свечникова рассказать что-нибудь об Алферьеве. — Двухпудовую гирю через избу перекидывал.
— Двухпудовую? — не поверил Свечников.
— Ну, пудовую точно.
— И через крышу?
— Мог бы вполне. Таким мужчинам нравятся такие женщины.
— Какие?
— Вот такусенькие, — двумя пальцами показал Осипов.
На кладбище он явился уже пьяный, а сейчас из последних сил удерживал на лице брезгливую гримасу отличника, наперед знающего все, что будет объяснять учитель. Эта гримаса всегда появлялась у него перед полной отключкой.
Говорить с ним было бесполезно, и Свечников подсел к Милашевской. Она глазами указала на Осипова:
— Деньги на похороны принес вон тот брюнет.
— Уже знаю. Они когда-то были знакомы.
— Может быть, это его Зиночка хотела здесь увидеть?
— Нет, просто пять лет назад она приезжала сюда с Алферовым. Захотелось, наверное, вспомнить прошлое.
— Почему вы мне раньше не говорили?
— Сам только что узнал.
— Я тоже сегодня вспомнила одну историю из ее детства, — сказала Милашевская. — Зиночка мне рассказывала.
— Откуда она была родом?
— Из Кронштадта.
— А родители кто?
— Отец морской инженер… Так вот, в детстве она плохо кушала, и бабушка резала ей пирожки на маленькие кусочки, выстраивала в очередь к чашке с молоком и начинала пищать за них на разные голоса: «Я первый!» — «Нет, я первый! Пусть Зиночка меня вперед скушает!» Тут уж она быстренько их уплетала. Еще и уговаривала: мол, не толкайтесь, все там будете.
— А из-за чего они с Яковлевым развелись?
— Из-за Алферьева.
— Пожалуйста, — попросил Свечников, — расскажите мне о нем.
— Что вам рассказать?
— Что хотите. Мне все интересно.
— Внешность?
— Да. Это тоже.
— Ну, как мужчина он довольно привлекательный. Лысый, правда, но это его не портило. Среднего роста, жилистый, хотя и худой. Такое нервное тело, очень выразительное в движениях. А лицо, наоборот, неподвижное. Мимика самая банальная — усмешка, прищур, взгляд исподлобья. Года четыре назад он увлекся эсперанто, вел кружок мелодекламации в клубе слепых эсперантистов. Однажды Зиночка привела меня туда на репетицию, и я подумала, что мертвенностью лица он сам напоминает слепого. Но при всем том — актер. Правда, из неудавшихся. Они с Зиночкой начинали вместе у Мейерхольда, в Доме Интермедий. Был в Петербурге такой театрик, закрылся года за два до войны.
— Вы что-то путаете. Он существовал еще в восемнадцатом году.
— Где?
— На Соляном городке. Пантелеймоновская, два.
— Это уже бледная тень того Дома Интермедий. Тот, первый, был на Галерной. Там они с Зиночкой и сошлись… Вы, наверное, хотите спросить, как же он с такой мимикой попал на сцену? Не знаю, как-то его угораздило. Причем одно время был даже любимцем публики. За этой неподвижностью лица видели сдерживаемую страсть.
— А ее не было?
— Ну почему же? Была, только сдерживать ее он не умел. Сначала он был анархист, потом — эсер. После революции дружил с большевиками, но скоро с ними разругался и уехал в Киев. Взорвал там какого-то немецкого генерала.
— Федьмаршала Эйхгорна, — уточнил Свечников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу