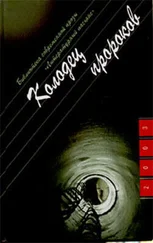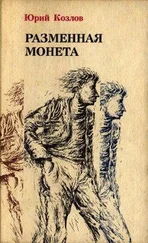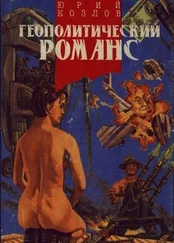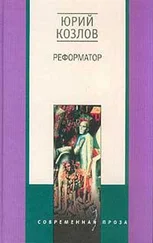— Да, так... Иногда шепоток доходит. А больше молчит народ. Боится.
— Кого?
— Ну как... Говорят, немцы в Оби пароходами объявились. До Новосибирска доехали, потом в лес ушли.
— Что за глупость. Кто такое говорит?
— Все потихоньку. Библию подняли, а там сказано: будто бы между Бией и Катунью война кончится. Сам не видал... Но как не верить. Сила-то солому ломит. До Волги Гитлер добрался. На Кавказ. Слухи ходят, как Москве конец, так и у нас большевикам крышка.
Вот оно в чем дело! Большевикам — крышка, Советам — крышка. А ты, голубок, председатель этого самого Совета. И ты не хочешь под крышку. Земля тянет тебя, а ты не хочешь. Ты лучше загодя отречешься от всего, что нацеплял на себя в мирное спокойное время. И откровенность твоя всего лишь расчет на свидетеля... А может быть, даже на наказание: смотрите, люди добрые, я жертва большевистского произвола. Ах, скот! Чем же ты лучше бандитов, прячущихся в горах? Да ты хуже их! Те хоть не лицемерят, прижались к своему берегу. А ты стоишь на стремнине и местечко в кустах выглядываешь.
Пирогов почувствовал физическое отвращение к Князькину, к его гладкой потной шее, вытянутым небритым щекам, седым завиткам в разрезе ворота рубахи.
— А еще слух идет, будто Турция и Япония...
— Хватит, — Корней Павлович встал. — Постыдились бы хоть. Завтра утром договорим. А сейчас дайте ключи от сельсовета... Или нет, проводите меня к Потапову.
— Как? Как же? Но ведь я думал... За что купил, за то продаю. Я могу заявление о картошке... Мать! Господи, ты где есть, мать? Товарищ Пирогов, не обижайте. Изба просторная. Вы гость... Есть кровать... сынова... Он на войне у нас... Как все нынче... И мы, как все... Ждем.
Он встал на пути. Корней Павлович молча обошел его. Уже в проходе на кухню оглянулся, смерил Князькина взглядом, точно запоминая.
— Так это враки? Правда? Что пароходами... Мать! Я ведь говорил.
Пирогов молча накинул полушубок, надвинул шапку на глаза. Сказал:
— Я подожду на крыльце.
— Ох, господи!..Сам-момент.
НА ТРЕТИЙ день после Октябрьских праздников Пирогову позвонила директор школы Ситко.
— Мне нужно встретиться с вами по очень запутанному делу.
— Пожалуйста, — сказал Корней Павлович. Он только вернулся из исполкома, где лектор из области рассказывал о текущем моменте и о перспективах второго фронта. И теперь, листая стопку газет, пробегал глазами сводки и удивлялся способности лектора видеть содержание между строк, делать из неуловимых подробностей широкие обобщения. Так за лаконизмом официальных сообщений из Сталинграда, оказывается, надо видеть не только опасность и сложность обороняющихся, но и невозможность немцев склонить чашу весов на свою сторону, их бессилие в этом. Таким образом, получалось, что в Сталинграде фронт стабилизировался и уже не представляет исключения из других. Составители сводки будто бы даже утратили к нему интерес.
Вот так штука! Ничего подобного не приходило Пирогову в голову.
Аккуратно положив газеты на место, Корней Павлович вышел в дежурку, облокотился на широкий, как прилавок, деревянный барьер. Дежурная — белокурая, пушистая, как цыпленок, Оленька Игушева, которую все называли только ласкательно, поднялась со стула.
— Сиди.
— Да уж насиделась, товарищ лейтенант.
— Спокойно?
— Спокойно, Корней Павлович.
— А немцы в трехстах метрах от штаба армии, обороняющей Сталинград. А?
Дежурная не поняла хода его мыслей, ответила с веселым вызовом:
— Час на час не приходится. Перед обедом опять дед Никифор шумел. Грозился всех нас лозой посечь.
— Это за что же?
— Он же на прошлой неделе и месяц назад приходил жаловаться: кто-то почтовый ящик у него чистит. А там газеты. И вчера опять вытащили, Говорит, велел почтальону положить в ящик, потому как сам в исподнем в предбаннике был. Когда помылся, вышел к воротам — нет газет...
ДЕД НИКИФОР отличился в гражданскую войну, имел орден Красного Знамени и тяжелое ранение. Где-то под Семипалатинском в схватке порубили ему ногу выше колена, посекли шашкой голову. Никто из своих не считал его жильцом. Но чудо любит отчаянных. Он выжил, и, больше того, срослась кость на ноге, только как-то криво. С тех пор дед Никифор бороду густющую отрастил, чтоб шрамы безобразные на скуле и через щеку немного прикрылись, и годов с тридцати пяти от роду его за бороду прозвали дедом.
В войну, с самого сорок первого туго стало с бумагой. Газеты сократили тиражи, трем из четырех желающих отказывали в подписке. Дед Никифор за прежние доблести имел привилегию. А так как почта приходила нерегулярно, привозили газеты в Анкудай пачками, случалось сразу за неделю. Такую вот последнюю пачку кто-то стащил вчера. И неделю назад. И месяц. Никифор лютовал так, будто его глаза лишили.
Читать дальше