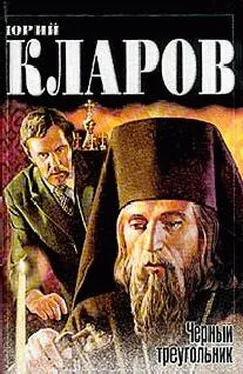Он вскочил со стула:
– Издеваетесь? Теперь не керенщина!
– Вот именно не керенщина, – подтвердил я. – Церемониться с саботажниками и демагогами по будем. В случае попытки организовать забастовку хотя бы в одном из комиссариатов Москвы будете немедленно арестованы и отправлены в революционный трибунал. Вам все ясно?
Он не ответил, но мне почему-то показалось, что теперь ему все ясно. Это впечатление у меня еще более укрепилось, когда он молча и почтительно проводил меня до автомобиля.
В дежурке уголовного розыска было серо от табачного дыма. Беспрерывно звонили телефоны: «час убийств» уже наступил…
За широким деревянным барьером теснились задержанные во время очередной облавы. Ругались, плакали, били вшей. Кто-то, аккомпанируя себе на расческе, пытался петь. В задних рядах резались в карты. Пожилой милиционер в расстегнутом на груди френче, вытирая платком мокрые от пота щеки, напрасно пытался навести порядок.
– Граждане временно изъятые, – монотонно повторял он, – па-апрашу не гоношиться! Вы в милиции, а не на балу, граждане временно изъятые!
Но «временно изъятые граждане» не обращали на его призывы никакого внимания.
В углу, там, где двое красногвардейцев из боевой дружины уголовного розыска разбирали станковый пулемет, я заметил Сухова.
– Я вас уже давно жду, товарищ Косачевский, – сказал он и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая – широкая, добрая. Улыбались не только губы, но и глаза, и розовеющие при улыбке щеки. Я так никогда не умел улыбаться. А жаль: улыбка человека – память о его детстве. Но о своем детстве я вспоминать не любил, разве что об архимандрите Димитрии. Впрочем, тогда он еще не был архимандритом…
– Эти что, с Сухаревки?
– Нет, тех уже просеяли. Это со Смоленского, только привезли.
– Как там дела у Волжанина?
– Не шибко… – немного замявшись, сказал Павел, и я понял, что «сухаревский орешек» оказался тверже, чем они оба предполагали.
Когда мы вошли в его кабинет, Сухов достал из железного ящика засаленный мешочек, развязал стягивающую его тесемку и высыпал на стол содержимое.
В плохо освещенной комнате на грязном сукне стола самоцветы не производили впечатления: стекляшки стекляшками.
Не поражал воображения и знаменитый «Иоанн Златоуст», которому Кербель посвятил свои стихи в прозе, названные Суховым протоколом опроса. Откатившийся под тень стаканчика с карандашами, как раз в то место, где на сукне темнело большое чернильное пятно, красный бриллиант выглядел жалко и сиротливо.
– «Иоанн Златоуст»? Гм… – с сомнением сказал я и ткнул кончиком карандаша в камень. Павлу, видимо, не понравилось мое фамильярное отношение к бриллианту, и он осторожно отобрал у меня карандаш.
– А почему вы, собственно, решили, что это «Иоанн Златоуст»?
– Ну как же, товарищ Косачевский… Я дважды все грани пересчитывал.
– Грани гранями, а…
– Да вы поглядите, какая игра. Как у «пти-меле», – щегольнул он ювелирным термином.
Сухов осторожно, словно опасаясь раздавить или помять камень, взял бриллиант двумя пальцами и поднес его к лампе.
– Видите? – Действительно, неказистая стекляшка преобразилась: вспыхнула, загорелась, заструилась между пальцами алой рекой.
– Ну вот видите, а вы сомневались, – удовлетворенно сказал он и так же осторожно, как брал, положил бриллиант на прежнее место.
Красный камень покоился на том же чернильном пятне в тени стаканчика с карандашами. Но теперь почему-то он не казался мне обычной стекляшкой. Теперь он воспринимался уже как бриллиант «цвета голубиной крови». Его огни не погасли, просто их свет стал мягче, не таким ярким и режущим, как секунду назад.
– Товарищ Косачевский, а кем был Иоанн Златоуст? – нерешительно спросил Сухов.
– Отец церкви, святой, архиепископ Константинополя.
– Я не о том. Это я знаю. Это мы на уроках закона божьего учили.
– А что вас интересует?
– Ну, вообще…
Кажется, Сухов хотел выяснить социальное происхождение Златоуста и его политическую платформу.
– Из обеспеченной семьи, но достаточно прогрессивных для четвертого века взглядов, – серьезно сказал я.
– Прогрессивных? – поразился он.
– Вполне. Считал, например, труд основой общественного благосостояния. Выступал против рабства, обличал богатых и знатных. А в своих проповедях говорил, что все люди по природе своей равны между собой и что бедные обездолены из-за ненормального устройства общества.
Сухов был озадачен. Видимо, преподаватель закона божьего, рассказывая о Златоусте, не считал нужным говорить об этом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу