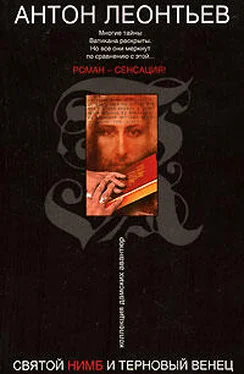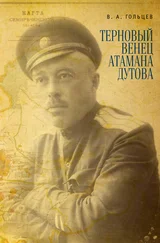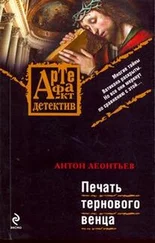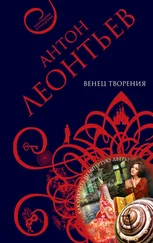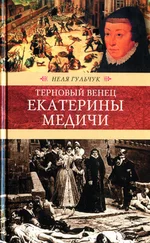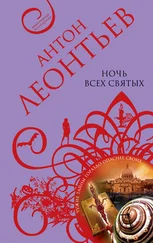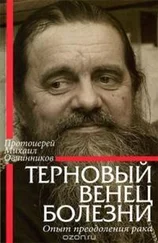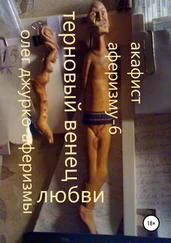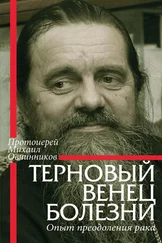В воскрешение Христа рационалистка Элька не верила.
Карл Брамс тем временем продолжал:
– Кроме того, отпечаток мог возникнуть в результате соприкосновения тела Христа, умащенного благовониями, с тканью. История плащаницы прослеживается без пробелов с 1578 года, когда она была доставлена в Турин, где и хранится с тех пор, что и дало ей соответствующее название. До той поры историю плащаницы тоже можно проследить, однако никто толком не знает, идет ли речь именно об этом погребальном саване Христа или о какой-либо иной реликвии. Ведь в Средние века подобные вещицы были в очень большом почете, за них платили огромные деньги, что подстегивало мошенников, в том числе из монашеской среды, фабриковать мощи святых, куски Голгофского креста, погребальный саван Спасителя, терновый венец и так далее. Если сложить все мощи любого святого, хранящиеся в разных церквях и монастырях, то выяснится, что у них было, по меньшей мере, по пять голов и по десятку ног и рук, на каждой из которых имелось по двадцать пальцев. А из щепок креста можно составить не только две балки, на которых был распят Христос, но и целую каравеллу. То же касается и плащаниц – в средневековой Европе их было много, и все они были подделками, причем весьма грубыми по большей части. За исключением той, что хранится сейчас в Турине!
Брамс отпил из бокала газированной воды, помолчал немного. Элька не торопила его. Через пару минут рассказ полился вновь.
– Не исключено, что плащаница в начале первого века, после смерти Христа, попала в ближневосточный город Эдессу, правитель которой, Абгар V, согласно легенде, был тяжело болен и в письме просил Иисуса прибыть к нему в город и исцелить. Вместо этого Абгар получил так называемый мандилион, полотнище с ликом Христа, прикосновение к которому сняло всего его страдания и сподвигло сделаться христианином. Но его сын вновь ввел в Эдессе языческие культы, и мандилион почти на пятьсот лет исчез. Вроде бы его замуровали в городской стене, где и обнаружили в 525 году после сильного наводнения. Для мандилиона был выстроен отдельный собор, его чтили как святыню, и, согласно хроникам Эвгария Схоласта, двадцать лет спустя именно его чудодейственная сила помогла Эдессе отразить нападение персов. Примерно до пятого века Христа на фресках изображали зачастую безбородым юношей, а затем, в середины пятого века, внезапно возникают и утверждаются иные портреты – бородатый длинноволосый мужчина лет тридцати пяти, лицо которого очень похоже на то, что изображено на плащанице. Это косвенным образом подтверждает, что после обнаружения мандилиона в Эдессе меняется и представление христиан о внешности Иисуса. В середине десятого века мандилион попал в Константинополь, столицу Восточной Римской империи – Византии. Его привез туда император Константин Багрянородный. Реликвию размещают в церкви Богородицы Фаросской, попасть в которую и увидеть чудо мог только сам император и его ближайшее окружение, да и то по большим праздникам. Но можно ли объявить тождественными мандилион из Эдессы и Туринскую плащаницу, непонятно, тем более что в то время возникла легенда о так называемом платке Вероники, поданном Иисусу по дороге на Голгофу сердобольной женщиной, которым он обтер лицо. Однако известно, что мандилион в Константинополе именовали греческим словом tetrа́diplon, что в дословном переводе значит «четырежды сложенный вдвое». Отчего такое странное название? Английский специалист по Туринской плащанице Иан Уилсон выдвигает теорию, что и в Эдессе, и в Константинополе саван выставлялся на обозрение не весь (его общая площадь около пяти квадратных метров), а сложенный четыре раза вдвое и укрепленный в раме. В подобном случае можно лицезреть только голову Иисуса, и это объясняет, почему некоторые ведут речь о длинном полотне, на котором все тело, а другие – только о сравнительно небольшом куске материи, на котором виден только человеческий лик. В апреле 1204 года во время Четвертого крестового похода Константинополь подвергся нападению рыцарей-крестоносцев. Те были почище янычар и не стеснялись грабить, убивать, насиловать и мародерствовать, причем их жертвами становились те, кого они должны были защищать от «неверных», – их братья по вере, христиане.
Элька усмехнулась: так и есть – самая большая опасность в любой религии исходит не от приверженцев другого религиозного культа, а от ортодоксальных и лишенных совести представителей собственного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу