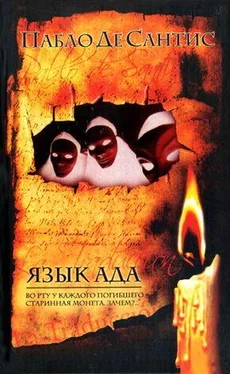– Ты всегда делаешь снимки сама?
– Да, я делаю все, как военный корреспондент.
– И о чем ты пишешь в Порто-Сфинксе?
– Накануне лета – о туризме. Если к нам вдруг заедет какая-нибудь знаменитость, я делаю снимки и задаю пару вопросов. Иногда пишу о происшествиях, полицейских делах… Но меня публикуют редко. Когда случается что-нибудь важное, посылают журналиста из штата газеты.
Мы спустились по лестнице к недостроенному бассейну. Химена медленно приблизилась к котловану, как если бы тело Валнера все еще было здесь. Я остановился у бортика и увидел под водой блеск монетки. Я спрыгнул вниз – на «мелкоту», где не было воды. Потом прошел вперед, пока подошвы моих ботинок не ушли под воду, и наклонился над монетой.
– Что это? – спросила Химена.
– Никелевая монета в один песо 1969 года. Они вышли из обращения в начале семидесятых.
Химену монета не заинтересовала. Она сфотографировала крышу, пустую лестницу, кота, который прогуливался по карнизу. Я положил монету в карман. Слой покрывавшей ее Ржавчины был очень тонким. Я поцарапал ржавчину, под ней были видны следы зубов.
Вряд ли это был амулет Валнера. Я бы не удивился, если бы он носил на себе камни с якобы магической силой, мумифицированного скорпиона, кристаллы, руны, да что угодно, – но не настолько невинный и лишенный всякого смысла предмет, как вышедшая из обращения никелевая монетка.
Почему-то я был уверен, что время изменило Наума не в лучшую сторону. Но когда он вышел из серого микроавтобуса, навстречу ветру, безуспешно пытавшемуся растрепать его прическу, я отметил, что Наум приобрел властный вид, намеки на который проглядывали в нем еще в молодости.
Я подошел и протянул руку для рукопожатия. Но он обнял меня и заявил:
– Ты не меняешься. Даже куртку носишь ту же самую, из овчины.
Я никогда не забочусь об одежде и никогда ее не покупаю. В этом я целиком и полностью полагаюсь на жену, которая иногда ошибается в выборе размера, модели или цвета. Наум же – напротив. Он всегда одевался с особой тщательностью, и еще ни разу не было, чтобы его ботинки блестели больше, чем это нужно, или фасон его одежды свидетельствовал о бездумной погоне за модой; это была та самая неброская элегантность, которая свидетельствует о безупречном врожденном вкусе, – элегантность, которую нельзя приобрести за вечер в модном магазине с кредитной карточкой в кошельке.
Я должен был присутствовать и во время их с Анной пылкого обмена приветствиями. Они заговорили о каких-то общих знакомых, через которых они получали новости друг о друге; они были как два монарха, вспоминавших своих приближенных.
Подошел Кун, чтобы официально приветствовать вновь прибывшего; он улыбался с таким облегчением, как будто Наум уже знал решение всех его проблем.
Мы расселись за столом, чтобы позавтракать. Кун усадил Наума во главе стола, следуя строгим правилам вежливости, разговор был ни о чем – об единственно возможной теме для беседы все предпочитали молчать. Меню было разнообразнее, чем в предыдущие дни. Вино было доставлено из малоизвестных погребов «для своих».
– Шофер мне все рассказал, – сказал Наум, едва усевшись за стол. – Да и по радио сообщали.
– Ты был знаком с Валнером? – спросил я.
– Мы иногда переписывались. Его заинтересовала моя книга о лингвистике и алхимии. Я никогда не встречался с ним лично.
В карьере Наума были два факта, положивших истоки легенде, о которой неизменно упоминалось на обложках всех его книг. Защитив диплом, он получил грант в американском институте иностранных языков, где опубликовал эссе о нейролингвистике и превратился в связывающее звено между лингвистами и невропатологами.
Получив кафедру в инязе, он все забросил и принялся путешествовать: сначала – в Италию, потом – во Францию, чтобы найти следы древнего языка, на котором были написаны герметические книги. Декан факультета лингвистики резко осудил своего ученика, который, как он решил, его предал: чтобы никто и никогда, заявил он, чтобы никто и никогда не произносил это имя в моем присутствии. На два года Наум полностью исчез из поля зрения академического мира, а потом «воскрес», опубликовав в научных трудах парижского университета «Печать Гермеса» лингвистическое эссе по вопросам алхимии, посвященное своему бывшему учителю. Эти двести страниц принесли Науму и славу, и деньги; один из фондов поставил его во главе Института лингвистики, созданного для изучения искусственных языковой системы символов магии и алхимии.
Читать дальше