Когда в саду похолодало, а в доме разожгли камин, Велькер отвел меня в сторону:
— Прежде чем пойти в дом, не прогуляемся ли немного по саду?
Мы прошли по лужайке и сели на скамейку под сливой.
— Я много думал о Грегоре и о нас, Велькерах. Мы взяли его в свой дом, но ему доставались только жалкие подачки с барского стола. А поскольку мы чувствовали себя его благодетелями, то вовсю пользовались его услугами. В детстве у меня была комната в мансарде, а у него в подвале, чтобы зимой он мог следить за отоплением: тогда еще топили не маслом, а углем. — Он медленно наклонил голову. — Я попытался вспомнить, когда же именно, еще ребенком, впервые понял, что он меня ненавидит. Но так и не вспомнил. Меня это просто не интересовало, вот я и не замечал. — Он посмотрел на меня. — Разве это не ужасно?
Я кивнул.
— Знаю: то, что я его застрелил, еще ужаснее. Но в каком-то смысле одно другого стоит. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Детские ощущения выросли и приносят плоды, как сказано в Библии. У него это убийство моей жены и все остальное, а у меня то, что только таким образом я смог от него избавиться.
— Он говорил, что хорошо относился к вашей жене.
— Штефани ему нравилась так, как слуге может нравиться дочь ненавистного хозяина. В конце концов, она была по другую сторону, а если борьба идет не на жизнь, а на смерть, остальное уже не имеет значения. Когда Штефани выступила против него, борьба пошла не на жизнь, а на смерть.
В доме зажегся свет, отблески падали на лужайку. Но под сливой было темно. «Один и один будет два» — кто-то поставил запись Хильдегард Кнеф, [13] Немецкая актриса и певица (1925–2002).
и мне захотелось обнять Бригиту и танцевать с ней вальс.
— Где же они… Неужели поджидали Штефани прямо у хижины? Ума не приложу, как им удалось идти за нами, чтобы мы не заметили! А мы-то думали, что, кроме нас, там никого нет! — Он прижал ладони к глазам и вздохнул. — До сих пор не могу избавиться от кошмара. Единственное, чего я хочу, — проснуться и все забыть.
Мне стало его жаль. И одновременно я не хотел знать того, что он мне рассказывал. Я ему не друг. Я выполнил его заказ. Теперь у меня другой заказчик.
— О чем вы говорили с Шулером, когда приходили к нему вечером?
— Шулер…
Если я и обидел его, сменив тему, то он ничем этого не показал.
— Мы с Грегором были у него вместе. Он рассказывал о своей работе с архивом и о страсбургском следе негласного компаньона, по которому потом пошли вы. Еще…
— Вы спрашивали у него про деньги? Деньги из кейса?
— Он сам об этом заговорил. Правда, в тот момент я ничего не понял. Он сказал, что в человеке просыпается подозрительность, если он находит в подвале чемодан денег. Что у него возникает вопрос, кому они принадлежат. И, говоря это, смотрел на Грегора.
— А что вы…
— Я был с ними не все время. У меня был… у меня был понос, так что я часто уходил в туалет. Видимо, Шулер нашел деньги в той части старого подвала, где ему, вообще-то, делать было совершенно нечего, а деньги эти хранил там Грегор. Шулер задумался и начал подозревать Грегора, потому что я из Велькеров, а Грегор не член семьи. А потом он попытался наставить своего бывшего ученика на путь истинный.
Его смех звучал одновременно язвительно и грустно.
— Наверное, еще вы захотите узнать, в каком состоянии был Шулер. От него противно пахло, но чувствовал он себя хорошо. Кстати, он не угрожал. Даже не сказал, что деньги у него. Это Грегор выяснил только на следующий день.
Песня закончилась, раздались аплодисменты, смех, крики, потом она зазвучала еще раз, громче.
Мне хотелось если уж не танцевать, то хотя бы подпевать. «Господь все видит и давно уже заметил тебя».
Он положил руку мне на колено:
— Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Когда-нибудь воспоминания об этих месяцах, слава богу, поблекнут. До сих пор хорошее я помнил гораздо лучше, чем нанесенные мне обиды, а вы как частный детектив сделали для меня только хорошее. — Он встал. — Пойдемте в дом?
Когда Хильдегард Кнеф пела свою песню в третий раз, я танцевал с Бригитой.
Почему это состояние не могло длиться вечно? Ясное, светлое и безоблачное, с легкой примесью грусти и печали. Грусти из-за Штефани Велькер, Адольфа Шулера и Грегора Самарина — да, из-за причинившего столько горя и заплатившего за это своей жизнью Грегора Самарина, — и печали оттого, что мы только сейчас обнаружили, как легко наши ноги и наши тела нашли общий ритм, какое удовольствие мы друг от друга получаем. Почему нельзя танцевать так весь год, этот, и еще один, и еще один, и все оставшиеся годы, сколько бы их ни было.
Читать дальше
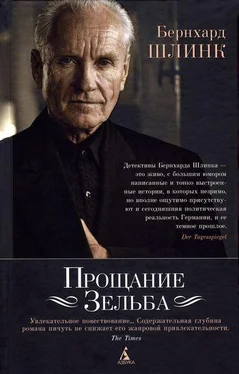
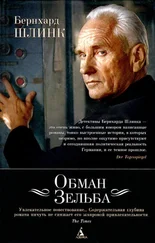
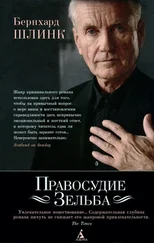







![Бернхард Шлинк - Летние обманы [litres]](/books/406918/bernhard-shlink-letnie-obmany-litres-thumb.webp)

