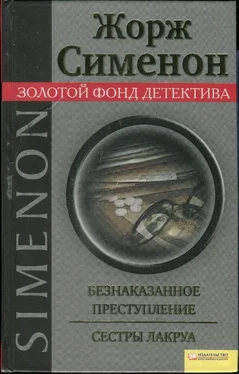— Прекрасный выход из положения! И, разумеется, именно он, узнав, что ты ждешь ребенка, посоветовал тебе найти скромного, покладистого мужа, если возможно, страдающего туберкулезом, чтобы ты смогла его отправить в Швейцарию до конца его дней!
— Нет, это я!
— И ты рассчитывала, что все пойдет своим чередом, что вы и впредь будете настоящими любовниками, а я…
И тогда Польдина, неприязненно взглянув на сестру, сказала:
— На моем месте ты поступила бы точно так же!
Почему в этот момент Матильде показалось, что она услышала голос своей дочери, доносившийся из кровати и придававший фразам таинственное звучание:
— …Интересно, что ты будешь делать, когда я уйду…
А главное, последние слова…
— Вы останетесь совсем одни, Польдина и ты!
Матильда посмотрела на сестру и почувствовала, что их окружала необъятная пустота. Софи была в кино. Жак жил своей жизнью, с другой семьей, которую он привык считать своей. Внизу долбили стены и убирали мебель, чтобы затем перенести ее в старые конюшни.
— Польдина…
— Что? Разве я не права? Разве это не ты заставляла его страдать?
— Замолчи!
— Разве я…
— Замолчи! — настойчиво повторила Матильда, вставая.
Матильда принялась ходить по мастерской. В углу, прислоненный к стене, стоял неоконченный портрет ее сестры. Но, даже не видя его, Матильда могла мысленно представить все детали.
Повернувшись к Польдине, она смотрела на живую сестру, состарившуюся на девятнадцать лет, в пенсне, черном платье, с вязанием на коленях.
Что-то, похожее на жалость, наполнило сердце Матильды. Но это не было жалостью к Польдине или к какому-либо конкретному предмету.
Глядя на лицо сестры, она явственно почувствовала старость, свою старость и старость Польдины, их общую старость.
Испугавшись, она плотнее закуталась в шаль.
— Мне интересно, о чем все-таки мы спорим, — вздохнула она.
Уже во второй раз за день ей захотелось заплакать. Польдина же ответила фразой, которой они часто обменивались в детстве.
— А кто начал?
— Ты!
— Вот еще! Это ты сказала…
— Польдина!
Матильда тихо плакала, изредка всхлипывая, закрыв лицо руками. Ее удивленная сестра почти не сомневалась, что Матильда намазала глаза слюной, как это она часто делала в детстве, чтобы разжалобить родителей.
— Не будем больше говорить об этом, — согласилась она. — Лучше…
Но Матильда, повернувшись к стене, спросила:
— Что он говорил тебе обо мне? Да, что он мог тебе сказать? О чем разговаривали вы оба, здесь, в то время как я… как я…
Польдина тоже встала, но вовсе не для того, чтобы мерить мастерскую шагами. Она взяла рукоделие, подобрала моток серой шерсти, упавший на пол, направилась к двери, вышла и с достоинством спустилась по лестнице.
Когда Матильда обернулась, с уже высохшими глазами, было слишком поздно. Мастерская опустела. В ней даже не было ни небольших картин с крышами, которые отправили в Париж на выставку, ни тетрадей, которые мсье Жони наконец сумел унести домой, чтобы на досуге изучить их и написать предисловие.
Если Польдина никогда не плакала, то Матильда никогда не плакала долго. Она два-три раза всхлипнула, обнаружила, что у нее нет с собой носового платка, и вытерла лицо руками.
Ей больше не хотелось читать. Она вообще ничего не хотела делать, а между тем до сна оставалось добрых два часа.
Прошло несколько минут. Матильда хотела было сесть, но подошла к портрету сестры и перевернула его. Но не из-за ненависти и не для того, чтобы еще сильнее разжечь свою обиду.
Матильда ощущала потребность перенестись в другое время. Она вспомнила, например, прическу, которую тогда носила Польдина, розовое платье, которое, по сути, не было настоящим платьем, а старым халатом. Эммануэлю хотелось, чтобы одежда была розового цвета. Но такой в доме не оказалось, за исключением этого изношенного халата…
Завтра утром вновь придется войти в комнату Женевьевы, на лицо которой было страшно смотреть, настолько смущал ее взгляд. И хотя Женевьева жила в собственном мире и слышала лишь приглушенные отголоски всего, что происходило в доме, она, казалось, знала все, догадывалась обо всем, читала в душах.
Но об этом Женевьева ничего не говорила. Пока вокруг нее хлопотали, наводили в комнате порядок, она снисходительно улыбалась, словно из вежливости, чтобы не быть в тягость, чтобы не огорчать семью.
Ее улыбка говорила: «Вот видите, я не испытываю мучений, мне очень хорошо, я счастлива и вам не надо печалиться о моей судьбе…»
Читать дальше