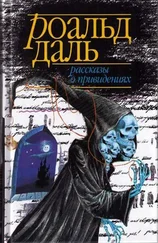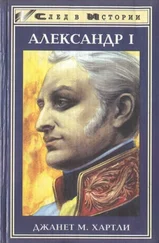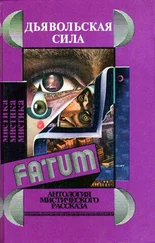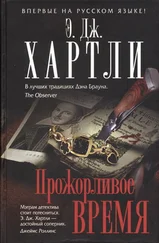Волошинов утверждал, что когда в 1970 году по решению КГБ останки наконец выкопали и уничтожили, Советы не столько хотели избавить мир от потенциальной нацистской святыни, сколько стремились положить конец постоянным спорам о теле, которое, как они знали, не принадлежало Гитлеру. Очевидно, русские считали невозможным — даже с новыми судебными технологиями — доказать, что тело и впрямь принадлежит Гитлеру.
Это был не он. Русские привезли тело в Магдебург и не хотели признаваться перед всем миром в своей ошибке.
Последнее доказательство — и именно оно привело Волошинова к одержимости этим личным крестовым походом — касалось его друга и наставника Меншикова. Именно свидетельства Меншикова, которыми тот частным образом поделился с отцом Александры — о том, что видел и чего не видел в Берлине в мае 1945 гола, — заставили Волошинова задуматься. И они практически убедили Дебору. Она прочитала отчет трижды, едва дыша.
В центральном коридоре бункера, у выхода к лестнице, ведущей в сад, где сожгли тела, осторожно пробиравшийся с автоматом в руках Меншиков нашел кинжал. То был не фашистский кинжал, а вещь гораздо более красивая и странная, с тонким бронзовым клинком и инкрустированный золотыми изображениями львов и колесничих: церемониальное греческое оружие бронзового века.
Наконец. Связь.
Но не микенский кинжал заставил Волошинова пятьдесят лет искать этот ящик по всему миру и не противоречия в официальной истории понуждали его писать в правительство, несмотря на все понижения по службе. Им двигала ненависть к фашизму и любовь к своей стране. Последней каплей стала смерть его друга Меншикова, которого тайно расстреляли вместе с тридцатью другими русскими офицерами за отказ подавлять восстание восточных немцев в Магдебурге в 1953 году. Именно этот факт больше любого другого подтолкнул Сергея Волошинова на борьбу.
Дебора сидела в кресле и держала в руках кинжал, найденный Меншиковым, кинжал, который тот передал своему последователю, — единственный реальный предмет среди вороха бумаг. Вещь из коллекции, которая хранилась сейчас в тайной комнате маленького музея в Атланте.
Вот она. Вот недостающая часть головоломки.
Дебора смотрела в иллюминатор, как остается позади Москва, и думала об Александре и ее муже, который подал обед с икрой и водкой, словно она — посол, а они обязаны продемонстрировать свою русскость и гостеприимство. Во время обеда Василий внимательно наблюдал за ней, но через некоторое время его внимание сосредоточилось на жене, привычная молчаливость которой, казалось, сохранялась только огромным усилием. Лицо Александры походило на плотину во время паводка, и, когда водку начали разливать в третий раз, плотина дала течь.
— Вы считаете... — начала русская, порозовев, — вы считаете, что мой отец, возможно, не был сумасшедшим?
Она едва могла дышать, едва могла выговаривать слова, и Дебора почувствовала, как тяжелая тишина и настороженность опускаются на комнату. Неужели Александра так и не рассталась с надеждой, что отец не был тем шутом, каким казался? Не рассталась, несмотря на стыд и неловкость? Вероятно, потому-то она и позволила Деборе посмотреть бумаги, которые не стала бы читать сама.
Дебора посмотрела на женщину, борющуюся со своими чувствами, и порадовалась, что может быть честной.
— Да, — сказала она наконец, — я не считаю, что он был сумасшедшим. Я считаю... — Она помедлила, все еще удивляясь новой идее. — Я считаю, он был прав.
Плотину прорвало, и Александра заплакала о себе и об умершем отце.
Так что теперь она знала. Время от времени у Деборы возникало ощущение, что она на ложном пути, что во всей этой истории какая-то неувязка, и теперь она знала почему. Археология здесь действительно ни при чем — за исключением того, что нацисты вообразили себя новыми греками. Гитлер, ведя свою ксенофобскую войну против низших народов, полагал себя новым Агамемноном, и когда эта война закончилась, а он покончил с собой, то захотел лежать в роскоши, подобно древнегреческим царям.
Дебора вспомнила разговор с микенским кузнецом о знаменитых нацистах, приезжавших на раскопки, мясниках и безумцах вроде Гиммлера и Геббельса, которые считали Шлимана тевтонским сверхчеловеком — отчасти потому, что он раскопал других сверхлюдей, героев армии Агамемнона. Во всем этом был какой-то извращенный смысл. Наверное, именно поэтому Гитлер так хотел провести в 1936 году Олимпийские игры в Берлине: он верил, что это право Германии как наследницы древних греков. До того как отправиться в аэропорт, она пролистала в московском книжном магазине книгу о фашистской эстетике. Бралась Дебора за книгу с некоторым страхом, боясь увидеть картины дикости и упадка; действительность оказалась противоположной. Нацистское искусство было сдержанным, классическим, избегало абстрактности и экспрессионизма и тяготело к консерватизму. Больше всего они любили искусство и архитектуру Древней Греции. В книге было полно планов зданий — многие нарисованы самим Гитлером, — похожих па афинский Парфенон, и статуй, явно сделанных по образцу или скопированных с классических оригиналов. Даже арийская политическая «философия» уходила корнями в греко-римскую эстетику — в националистическую, этноцентрическую и расистскую ее версию, гласившую, что упадок классического мира был прямым следствием расового смешения. Нацисты верили, что, очищаясь от «низших» народов, восстанавливают золотой век, примером которого служили искусство и культура Древней Греции.
Читать дальше