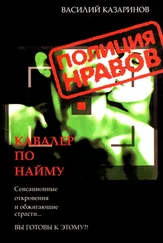С минуту я тупо глядел на эти воротные тумбы, от былой парадной торжественности которых не осталось и следа, и пытался сообразить, что бы это могло означать, — уж слишком неожиданно выросли на моем пути эти два облупившиеся рудимента давно погрузившихся на дно атлантид — и начал было подумывать о том, что, упустив Санин фургон на повороте с трассы, сбился с пути, однако по здравом размышлении эту крамольную мысль отбросил: вильнуть с бетонки было ему некуда, вот разве что в тенистую просеку, что отползала в глубь леса справа от дороги метрах в трехстах отсюда. Я сдал назад, развернулся и покатил в обратном направлении.
Судя по тому, что в глубоких ложах проселочной колеи тускло поблескивала девственная, нетронутая грязь, здесь давно никто не проезжал. Рискуя посадить машину на брюхо, я двинулся в глубь леса и вскоре уперся в маленькую полянку, на краю которой был свален относительно ровным штабелем посеревший от времени, сухой и ломкий валежник, формой и габаритами походящий на погребальный языческий костер, вспомнил наш разговор с Люкой на предмет моих роскошных похорон и прикинул про себя, что это погребальное ложе будет мне в самый раз.
Загнав «Жигули» в тыл штабеля, я двинулся дальше пешком — старый ельник принял меня за своего, и я, растворившись в его сыроватой сини, спустя минут десять пророс в тылу старой водонапорной башни, тень которой ложилась на обширную прореху в заборе, ограждавшем территорию поселка. Похоже, я оказался в дальнем его тупиковом углу, глухом и сумрачном, тяжелыми кронами стоявших вдоль узкой аллеи деревьев сраставшемся с лесом. По левой стороне аллеи тянулся глухой зеленый забор, плоский верх которого был изящно подвит спиралью колючей проволоки, а у распахнутых ворот стоял знакомый мне фургон.
Коренастый дубок, охранявший угол забора, гостеприимно предложил мне в подмогу один из своих нижних сучьев; ухватившись за него в прыжке, я повис, собираясь с силами, подтянулся настолько, чтобы в очередном рывке вверх дотянуться рукой до крепкой толстой ветви, на которой смог передохнуть и впитать корой своих черствых шершавых ладоней ровное дыхание крепкой дубовой плоти, а вслед за этим расслышать в ее глубинах мерные пульсации древесной жизни, — они быстро вошли в мою кровь и срослись с ритмом моего дыхания, потому я без труда растворился в пышной кроне дерева, наблюдая сквозь нее фрагменты обширного участка, по центру которого грелась на солнце аккуратно выбритая лужайка с декоративным прудом, искусственное происхождение которого сразу бросалось в глаза: уж слишком плавен был очерк его берега, с избыточной тщательность выстеленного разнокалиберным гладким булыжником.
Вокруг пруда разбредались несколько дачных столиков, укрытых от солнца круглыми зонтиками тентов, левее ароматно курилась жаровня барбекю и окутывала слоистым дымком массивную тележку передвижного бара, открытые полки которого были забиты множеством бутылок всех мыслимых и немыслимых форм, цветов и оттенков.
В тылу лужайки вырастало несколько не вяжущееся с общим ансамблем строение, в плавных покатых формах которого смутно угадывалась миниатюрная копия тех атлантидных концертных «ракушек», что некогда были разбросаны по паркам культуры и отдыха: полукруглая палуба крохотной эстрадки, уютно накрытая сферической крышей, под сенью которой темнели массивные ящики черных динамиков, а на переднем плане, у самого края эстрады, тускло поблескивала хромом долговязая стойка микрофона.
Левее, метрах в пятидесяти от края солнечной поляны, в синеватом сумраке леса просматривались контуры массивного дома, над светлым каменным цоколем которого нависала просторная лоджия, обшитая благородным черным деревом и отороченная по верхнему краю низких перил розоватой, как кровавая пена у рта, пышно клубящейся геранью. Чопорной и подчеркнуто буржуазной внешностью этот элемент дома походил на открытую ресторанную веранду уютного горного отеля, да и вообще в облике симпатичной дачки смутно угадывалось родство с альпийским шале, невесть каким ветром занесенным в безалаберные глубины русского леса.
Единственным обитателем этой цивилизованной, на типично европейский манер вылизанной резервации, взятой в осаду варварским ельником, казался Саня — экипированный в камуфляжную форму, он, низко надвинув на лоб длинный козырек полевой армейской шапочки, меланхолично бродил по участку, высеивая по пространству поляны зачатки небесных цветов. Приседая на корточки, он подолгу возился с каждым пучком рассады, что-то прилаживая, устанавливая и прикручивая, потом, медленно поднявшись и отступив на пару шагов, любовался делом рук своих и медленно поднимал голову к небу, — по всей видимости, следил в воображении за возможным направлением роста того или иного стебля, качал головой и начинал что-то переделывать, перестраивать в своих грядках, изредка зыркая в сторону ворот, вплотную к которым стояла крепко сбитая из толстых бревен сторожевая башенка, возвышавшаяся над забором метра на три.
Читать дальше