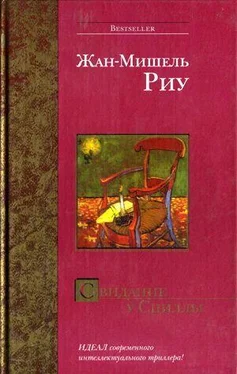Для меня отъезд был облегчением. Я покидал ненавистное мне место. Не я умолял оставить нас, а мы отказались от него. Отъехав от Алансона, я выбросил пансионерские простыни в окно. Меня переполняла смелость, чувство такое новое, как только что выпавший дождь. Прощайте, ночные горшки. Я больше никогда не дрогну.
Клаус был спокоен. Я думал, что он опасается дальнейших событий: встречи с отцом, ужасных объяснений, решительных мер. Было кое-что и похуже, чем пансион в Алансоне. Поговаривали о заведениях еще более суровых, где за дерзость дорого платят.
Клаус улыбнулся. Журнал не принес ему славы. «Перед гибелью» не стал ни победой, ни героическим поступком. Возможно, проявлением гордыни. Больше ничем. Чего он еще хотел? То, что сделал я, было прекрасно.
Клаус стал рассуждать о моей гнусной склонности к самодовольству. На мой взгляд, я был слишком терпим. Снисходительность стала моим принципом. Клаус мечтал о чем-то необыкновенном, о приключениях на пределе сил для того, чтобы прославиться, а мне хватало самого простого: наслаждаться, нести чепуху, блистать. Я пожал плечами. В купе привычно пахло резиной и мазутом, а теперь завоняло самодовольством. Я сделал вид, что принюхиваюсь.
— Это от тебя. Тебе надо ноги помыть, а то дышать нечем.
Мы отвернулись друг от друга и замолчали. Сомневаться во мне? После того, что я сделал! Клаус был несправедлив.
Время текло. Вот и Шартр. Скоро приедем. Клаус взял листок бумаги, что-то нацарапал на ней и с серьезным видом протянул мне.
— Писать ты не обязан, но хорошо быть в курсе. Смелее, брат, это только начало.
С равнодушным видом я прочел: улица Аполлинера, 3, Версаль. Имя поэта было подчеркнуто и нарисована стрелка, указывающая на фразу: «Все ужасно». Это выражение не Клауса, а Аполлинера. Я сложил бумажку. Поезд прибыл в Версаль, и когда я снова взглянул на платформу, она была пуста. Клаус исчез. Громкоговоритель объявил: «Следующая остановка Монпарнас. Конечная». Поезд тронулся, и на стекле мне рисовались картины моего наказания.
Я боялся встречи с родителями, но наказание оказалось неожиданным. Благодаря обычной финансово-дипломатической сделке они добились (но какой ценой) моего восстановления после символического исключения на восемь дней, но при условии испытательного срока. Мне посоветовали выбросить из головы все дурацкие идеи. Вечером я написал первое письмо Клаусу. Какая победа! Самое главное, что за все наши подвиги нам предлагали еще и недельные каникулы. Клаус не ответил. В следующее воскресенье меня проводили в пансион. Устроили даже прощальный обед в хорошем ресторане Алансона. Я думал только о наслаждении: взял малиновый шербет и не прислушивался к отцовским угрозам.
Мое возвращение было триумфальным. Дортуар шумно приветствовал меня. Светские и кюре собрались понаблюдать за радостной встречей. Немедленное пресечение очагов пожара, повторение заданий в аллеях, постукивание ключей о прутья кроватей при малейшем шепоте. Этой ночью заснули поздно. Скользнув под чистые простыни, я наслаждался. Пустая кровать Клауса не волновала меня Он вернется завтра.
С этой надеждой я жил до среды. Во время обеда я не выдержал, встретившись взглядом с классным наставником:
— А где Хентц?
Он внимательно посмотрел на меня.
— Bы нарушили обет молчания? — Наставник улыбнулся, а я опустил глаза. — Хентц больше не вернется.
Наставник присвистнул от удовольствия, забрызгав меня слюной. Я вспомнил, какой он отвратительно вонючий и грязный, и есть расхотелось.
На мое письмо Клаус не ответил. Та же участь постигла и остальные, отправленные мной до конца года. Старый кюре, профессор греческого, принимал во мне участие, и было из-за чего: только меня представили по этому предмету на звание бакалавра. Успехами заведения кюре был обязан мне. После бесконечных расспросов я узнал, что Клаус отказался от учебы. «Мы не знаем, где он». — Старый кюре говорил по-французски с греческим акцентом. По слухам, Клаус работал в поле: кукуруза и свекла на севере, виноград и орехи на юге. Клаус был потерян для общества. «Забудьте его, сдавайте экзамен и мотайте отсюда». Эллинист желал мне только добра.
Скандал с журналом произвел впечатление на других пансионеров. Я пользовался авторитетом и уважением. Меня оставили в покое. Между мной и администрацией сохранялась дистанция, моего поступка не поняли и отнесли его в разряд нетипичного. Нормальное хулиганство ограничивалось пожаром в туалете, кражей вина из подвала, отключением электричества. Но журнал? И что хотели сказать названием «Перед гибелью»? Я заслужил такое отношение и с удовольствием принял его, ценя защищавшую меня тишину.
Читать дальше