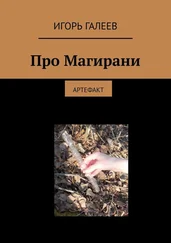— Митька, говоришь? — привстал с места участковый. — Где же его угораздило?
— Да пожар в поле был. Пшеница горела. Там, говорят, и обжегся…
— Ну-ка, пошли! — двинулся к двери участковый, и оба спешно вышли на улицу.
— Ну, я лечу! — махнула рукой Анфиса и тут же засеменила по улице, придерживая полы халата.
— Постой, куда же ты? — остановил ее участковый. — Не видишь разве, мотоцикл у меня. Давай сюда, вместе поедем.
У входа в больницу толпился народ.
Поодаль в окружении женщин плакала навзрыд мать Митьки.
Зайдя в больницу, Карташев лицом к лицу столкнулся с главврачом Михеевым.
— Здравствуй, Михаил Максимович! Ты звал меня?
— Не я, он… — угрюмо кивнул главврач на дверь, ведущую в палату для тяжелобольных. — Хохлов там… Дмитрий. Привезли недавно с поля обгоревшего. Один он там с огнем воевал… Справился, говорят… Считай, тонны хлеба спас. А теперь вот…
— Что, плох очень?
— Хуже не бывает. Зайди к нему. Он поговорить с тобой хотел, наедине, значит…
Митька был в палате один. Он лежал почти весь забинтованный и тихо стонал. На опухшем и почерневшем лице невозможно было различить ни губ, ни глаз. И Карташеву стало даже как-то жутко, когда между носом и подбородком больного приоткрылась маленькая щель и из нее еле слышно прозвучало:
— Садись, Петрович. Я недолго…
Участковый придвинул к кровати стул и осторожно, словно боясь потревожить больного, сел.
— Слушай, Петрович, — тихо, почти шепотом проговорил Митька. — Я пшеницу сегодня возил на гумно. Когда делал последний рейс, оставил немного в березовой роще. Там она, пшеница… в просеке, на дне овражка… Попутал меня бес, Петрович. Ты уж прости. Я потом хотел вернуться, забрать пшеницу, а тут как раз пожар… Некогда уж было… Но я хотел, честное слово, хотел. Ведь я… я…
— Говори, говори, Митя, я слушаю, — наклонился над ним участковый, но Митька молчал…
Когда зашел главврач, Карташев молча покинул палату…
— Ну, что с ним? — ринулись к нему ожидавшие у крыльца сельчане. Карташев, не говоря ни слова, прошел через толпу и, увидев стоявший на дороге грузовик, позвал к себе водителя.
— Вот что, парень, — сказал он ему тихо и строго. — Возьми-ка с собой ведро, лопату и поезжай в березовую рощу. Там в просеке, на дне оврага, должна быть пшеница… Привези ее и сдай на гумно. Митька там ее случаем оставил. Завалился колесами в овражек и просыпал малость…
— Как это, Петрович? Зачем в рощу-то…
— Ты что, не понял? — нахмурил брови участковый, взглянув сердито на водителя. — Машина, говорю, завалилась случаем в овражек и просыпалась пшеница. Не ясно разве?
— Понял, Петрович! — сразу же выпрямился водитель. — Еду сию же минуту!
Он потянулся к Карташеву и спросил уже тихо; по-свойски:
— А Митька-то как, жив будет или нет?
— Умер Митька… Умер как настоящий мужчина… Так что ты уж его просьбу постарайся исполнить исправно, — ответил участковый и, вздохнув, направился к своему мотоциклу.
В зале судебного заседания Давлетшин занял привычное место за прокурорским столиком и, разложив свои бумаги, посмотрел на присутствующих.
Сидевшая напротив секретарь заседания, молоденькая девушка с челкой на лбу, чуть улыбнулась и еле заметно кивнула. Давлетшин с той же учтивостью ответил на ее приветствие и перевел взгляд на подсудимого. Это был худощавый молодой человек со смуглым лицом и пышной кудрявой шевелюрой. Коричневая кожаная куртка, кофейного цвета сорочка и неяркий узкий галстук очень подходили к его тонко очерченному лицу, придавая ему выражение спокойствия. Изредка подсудимый бросал взгляд в дальний угол зала, откуда за ним наблюдала миловидная беременная женщина, по всей вероятности его жена.
В переднем ряду находились потерпевшие — четыре подростка лет шестнадцати-семнадцати, остриженные коротко, почти наголо, и оттого очень похожие друг на друга. Похожими делала их и одежда: на всех — одинаковые потертые джинсы, разукрашенные яркими картинками футболки, запыленные и небрежно зашнурованные кроссовки. Сидели они молча и смиренно, словно находились в классе и слушали рассказ строгого учителя.
За ними, во втором ряду, располагались четыре женщины — их матери. Одна из них полная, дородная, с высокой пышной копной темно-рыжих волос, двое других — ничем не приметные, скромно одетые, молчаливые, и последняя, та, что была всех ближе к подсудимому, — худая, угловатая, с лицом маленьким и угрюмым.
Читать дальше





![Фаниль Галеев - О чем молчали звезды [litres]](/books/396535/fanil-galeev-o-chem-molchali-zvezdy-litres-thumb.webp)