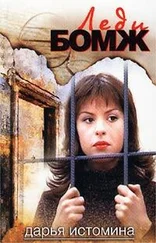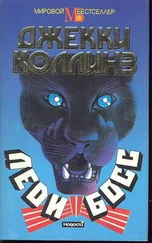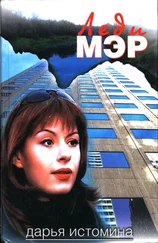На этот раз они все просчитали безошибочно, они знали, что ничего дороже Гришки у меня нет. Но что они мне готовят еще? Я отодвинула от себя тарелку и сказала:
— Вот что, Зиновий Семеныч… Лопать твоего судака мы будем потом. Давай телись. Что все это значит? Что вы там с мамочкой еще надумали? Ты же по своей воле и пукнуть не можешь! Или это все игрушечки Тимура Хакимовича? Это же он тебя с Гришкой на своем корыте по Волге прогуливал.
Зюнька бледнел медленно, загорелое лицо его становилось серым, он долго жевал сигаретку, потом выплюнул и вздохнул:
— Вот черт! Я же знал, что все так и будет… Дура ты все-таки, Басаргина! И между прочим, полная… Может, для тебя я все еще полено дубовое… Только не полено я! И если хочешь знать, я сам себя все эти дни, как вон того судака, на сковородке поджаривал! Пока не дошло — поздно все… Опоздал я…
— Куда опоздал?
— Да всюду! Его ж для меня никогда как бы и не было. Тем более мутер все зудела: «Не твое!» Через Ирку, мол; полгорода прошло! Губошлеп ты, мол, которого на крюк цепляют… Так что я и думать про него забывал. Ну шевелится там что-то вроде головастика… Что-то такое, еще безмозглое, которое ничего не знает и не понимает! Да еще и Ирка издеваться стала, когда дошло до нее — захомутать меня у нее не выйдет: «Может, твой, а может, и не твой…» А тут недавно заявилась расфуфыренная, где-то бабок, видно, нагребла, с мутер пошушукались, а у нас как раз этот самый Кен вокруг мамочки вертелся. В общем, я не знаю, что там за толковище у них шло… В общем, приволакивает она его, перепуганного до икоты, и заявляет: «Твой!» А он уже не головастик, в пеленках, он же уже человек, понимаешь! И ее в упор не видит, «тетей» зовет… А она ему ухо выкручивает: «Мама я, а вот это — папочка!» А он ее боится, меня боится, всех боится… Мы его игрушками заваливаем, а он по ночам под кроваткой прячется и плачет. Мутер говорит: «Привыкнет!» Но я-то не слепой, без очков вижу — до лампочки ей пацан… Опять она какую-то свою игру играет, только на этот раз перед этим косоглазым хвостом виляет.
— А что ему от нее надо?
— Не знаю. У моей мутер знаешь как? «Делай это!», «Не делай того!». «Я лучше тебя знаю…» Вот и на этот раз: «Свези его куда подальше! Ну нашим покажи…» Вот я его и поволок… Только замолчал он!
Зюнька налил вина, выпил и вздохнул:
— Как немой… Молчит и молчит. И даже не плачет. У нас одна каюта была. И как-то ночью слышу, бормочет: «Мама, мама…» Я сунулся, а он горит весь. Ну что я, зверь, Басаргина? На хрен мне все эти родственные церемонии с таганрогскими шашлыками… Знаешь, до чего додумался? Если бы не ты, так его бы, может, уже и на свете не было? Может быть, он уже где-нибудь приютские макароны лопал! Думаешь, я не знаю, как она тебе его подбросила? Я про тебя, Басаргина, знаю все, что знаешь о себе ты сама, и немножечко больше… Только вот вроде бы так все выходит, что пацан там должен быть, где его нормальный дом. Нет, ты не думай, я от него не отказываюсь. Только какой я ему папочка? Стыд один… А пацан, он знаешь ведь какой! Он удивительный пацан!
— А как же… мутер? — спросила я.
— М-да… — почесал он затылок растерянно. — Мне она, конечно, врежет. Только по-другому нельзя. Ты не думай, Басаргина, я деньжат подбрасывать буду… Телка вот эта мордатая, которая его зализала, обрыдала всего, это нянька, что ли? Давай с этого и начнем: няньку я беру на себя! А вообще я знаешь как понимаю! Тут, с тобой, у него совершенно другая панорама перспективы. Москва же… Тем более ты с языком. Он у тебя в момент по инглишу залопочет… А я мешать не буду. Ну, может, только так, иногда… На часок закачусь… Если не прогоните!
Я молчала.
Конечно, я догадывалась, что дело было не только в Гришке.
В отличие от Щеколдиной-мутер, Зюнька, видно, не забыл то, что они со мной сотворили когда-то. И кажется, я сильно преувеличивала его дебильность. Всю жизнь мутер водила его на поводке, в наморднике и приучала, как бобика, выполнять ее приказы не раздумывая. Но что-то там в этом забалованном парне еще оставалось девственно-невинным и нетронутым, и, по-моему, Гришунькино одиночество, его ужас перед чужими, его бездомность так бы не тронули его, если бы когда-то в своем детстве он не переживал чего-то похожего. Если я не забыла того, о чем сплетничала Горохова, то сопливого Зюньку мутер, занятая учебой в юридическом, а затем судейскими делами, держала на расстоянии от себя, перебрасывая от одного родственника к другому, что-то там у нее не складывалось в семье с мужем — лектором общества «Знание», и несколько лет они жили отдельно друг от друга, хотя формально и оставались семьей, поскольку развод мог лишить их партийной непорочности.
Читать дальше