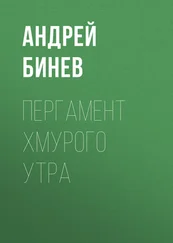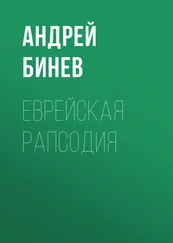Шеин был единственным ребенком в семье, воспитанным по принципам революционного аскетизма и самопожертвования. Однако уже в детстве учителя замечали в его поступках скрытый протест, направленный на диктат взрослых правоверных коммунистов. Он был тем дисциплинированным мальчиком, который хорошо знал, когда надзор за ним притуплялся и когда можно было проявить свой нигилизм и даже разбойничьи свойства характера.
Возможно, именно это больше всего развивало его нестандартный ум и сделало его в дальнейшем мастером конспирации.
Шеин поступил на математический факультет ленинградского университета, а по окончании его был взят на учебу в высшую школу КГБ, кажется, в Минске. Затем его направили на финскую границу. Просидел там на средненькой должности в каком-то секретном отделе три с половиной года, а потом вновь стал учиться в специальной разведывательной школе в Москве.
Я подробно знаю эту часть его биографии, потому что мне показывали досье на него. Кстати, это был тот самый англичанин, которого уже нет. Неожиданно заболел. Сгорел буквально за месяц. Весь покрылся алыми пятнами, похудел, полысел и наконец захлебнулся собственной рвотой. Причина неожиданной болезни так и осталась для многих «загадкой».
В досье на Товарища Шею, которое он мне показал, были имена соучеников, коллег по службе и даже некоторые любопытные подробности их карьерного пути. Полагаю, где-то в кадровой системе русской спецслужбы всегда сидели информаторы западного противника. Может быть, они и не пропускали в ту службу более способных людей, чем те, кого брали? Потому-то туда в свое время набились тысячи циничных карьеристов. Потом они, поддерживая друг друга, полезли еще выше и, приобретя уже более или менее штатский опыт, захватили политические и финансовые высоты.
Вот что однажды мне сказал Товарищ Шея во время очередного возлияния. Может быть, намеренно это сказал, зная, что я здесь единственный, кто оценит по достоинству его искренность. Он вообще понимает меня лучше других, хотя соотечественником и не считает. Или считает все-таки? Или о чем-то догадывается?
— Что всегда написано на лицах моих соотечественников? — говорил он задумчиво. — То же, что и в их душах. Этим же символизируется и наша литература, и кинематограф, и театр. Не знаешь, чем? А ты пройдись по нашим улицам, войди в подземку, в супермаркеты, в лавки. Ну что, что ты там увидишь? Ты увидишь всеобщую скорбь! Вот что написано на лицах народов, испокон веков проживавших на российских землях. Всеобщая, всепоглощающая скорбь!
Он смотрел куда-то поверх моей головы, долго и действительно со скорбным выражением на, как обычно, не очень трезвом лице. Потом продолжил, скользнув невидящим взглядом по моей мулатской физиономии:
— Посмотри на нескончаемый поток автомобилей в России, где бы они ни чадили, где бы ни ловчили — на дорогах, в городах, в селах. За рулем машин сидят люди, у которых скорбь заменена на выражение злобной решимости. А вот у их пассажиров в глазах смиренная, мрачная обреченность. Но те и другие думают, что глупый металл защищает их, будто они мягкая скорбная начинка жестокой цивилизации. Иллюзия! Доспехи глупого воина, под которыми скрыта мякоть жизни. Обрати внимание: как только эта иллюзия защищенности начинает действовать, они все сразу становятся озлобленными зверьками со свинцовым взглядом. Свинец всеобщей скорби!
Он опрокинул в себя очередную рюмку.
— Потому и пьют. И будут пить! Один умный грузин как-то сказал, что дорога непременно должна вести к храму. Если не ведет, то не стоит по ней идти. Но наши ухабистые, разбитые дороги никогда ни к каким храмам не вели и никуда не ведут. На них уже несколько столетий стоят солдаты короля с такими же мрачными рылами, как и у бредущей в неизвестность беззащитной, скорбной толпы. Да и у самого короля та же скорбная рожа, разве что еще отвратительнее, потому что изуродована самодовольством. Вот что такое моя родина. Разбитая дорога охранников и рабов с одинаковыми скорбными лицами. Куда они бредут? К какому такому храму? Ну и как он выглядит? Как банк? Как роскошная вилла? Как императорский дворец? Кто-то, может, и добредает до этих призрачных строений и сдуру принимает их за храм. Я был среди таких. И тоже считал их храмом, а скорбь как въелась в мою рожу, в каждую ее морщину, так и осталась там до конца дней моих. Всеобщая, всепоглощающая скорбь!
Он опять выпил и отвернулся от меня к черному огромному окну, в котором отражались столик и его поистине скорбная фигура. Это было поздним вечером. Мы вдвоем тогда остались в ресторане. Я стоял над ним и сокрушенно слушал, как он пьет и болтает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу