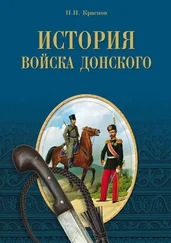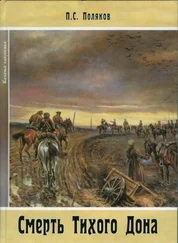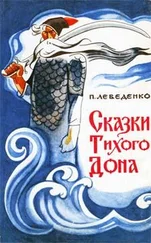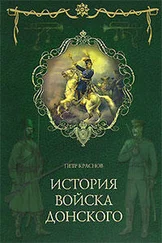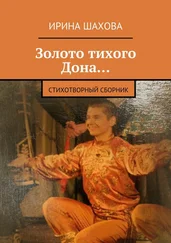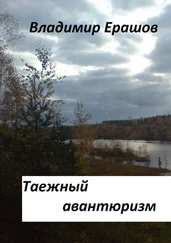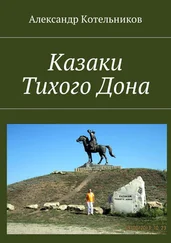Вот так и оказалась вдова посла Великой Британии, английская виконтесса и просто леди, будучи беременной потомком Чингиз-хана, в славном русском городе Воронеже. Воевода тамошний слыл человеком по тем временам весьма образованным, хотя даже он языком аглицким не владел, а толмача с английского на русский, естественно, так и не сыскал (да и чтобы он в Воронеже-то делал?). Но тем не менее, отправив в Московский Посольский приказ соответствующую отписку, столь неожиданно попавшую в Воронеж иностранную подданную, воевода, проявив человеколюбие и широту державного кругозора (хрен её знает, что за птица такая) всё-таки приютил и дал ей возможность благополучно разрешиться от бремени.
После чего виконтесса первой оказией в Москву вместе со своей служанкой и укатила, чисто по-пуритански оставив ребенка как свидетельство своего позора на попечение этих нецивилизованных и непонятных русских. Мол, раз ваше оно, то вы с ним и разбирайтесь…
В Москве, тем временем, уже вовсю хозяйничали поляки и прочие европейцы наемнического толка, среди которых нашлись и персоны добже разумеющие аглицкую мову. Так что правдами и неправдами, но виконтессе все же удалось добраться до туманных Британских островов, где вдова убиенного на дипломатической службе лондонского виконта вторично вышла замуж, на этот раз за скромного эсквайра из Девоншира. Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила написанию мемуаров о своих романтических приключениях в дикой варварской стране, которые, правда, ввиду отсутствия живости пера, особо никто не читал. А про рождение же ребенка – потомка английских виконтов и чингизидов – бывшая виконтесса, а ныне жена скромного девонширского эсквайра дипломатично умолчала и судьбой его никогда не интересовалась.
Надо сказать, что казачья ватага, пришедшая в Воронеж с Николой Тревинем, отдохнув и набравшись сил, решила разделиться.
При этом меньшая её часть, с атаманом Николой Тревинем во главе, пожелала остаться на зимовку в Воронеже, временно записавшись в городовые казаки. А большая же часть казаков, вместе с ясаулом Дартан-Калтыком, примкнула к объявившемуся в южнорусских землях и входящему в силу атаману Заруцкому. Под его командой они и отправились попытать счастья в Московию, где в это время, после семибояровщины и Василия Шуйского, начали разворачиваться весьма интересные для лихих и вольных казаков деяния, связанные с очередным Лжедмитрием.
Но вернемся к рожденному в Воронеже аглицкому виконту татарского происхождения. К счастью для него, пусть и дика Рассея в глазах просвещенных европейцев, но на то она Русь сердобольная матушкой испокон веков и зовется, что сирот своих на её земле бросать не принято.
Потому рожденный в казачьей среде мальчонка, в ней же и остался. Мало того, на его содержании, по просьбе, официально вынесенной Тревинем на Круг, ему, как будущему казаку, даже была выделена доля добычи из общего Дувана. Потом эта доля была передана вдове одного городового казака, сложившего свою буйную головушку на русской службе, но успевшего перед тем обзавестись в Воронеже женкой и хатой. Жалостливая казачья вдова после смерти мужа занялась богоугодным делом – брала себе в дом казачьих сирот и на казачьи же пожертвования их и взращивала, исправно поставляя для службы в городовых казаках своих отроков после их возмужания.
Сын британской виконтессы и Кара-Гильдей-хана в православии был крещен Амвросием. Но над его прозвищем (или тем, что впоследствии станет фамилией) казакам пришлось немало поломать свои чубатые головы. Ломали, рядили, но все же придумали. Вспомнили, как служанка, лопоча с пришипением по-своему, часто называла англичанку: «Мисс-с-с… мисс-с-с…». Значит, ее какой-нибудь Миссой, а проще говоря, Миской и прозывали, логично рассудили казаки, не вдаваясь в тонкости заморской речи. Имя же отца мальчика для них было известно очень даже хорошо – это был тот самый Кара-Гильдей-хан. Так что не мудрствуя лукаво, взяв первую часть татарского имени отца «Кара» и соединив его с аглицким именем матери «Мисс» (как они его считали), казаки получили пригодное для казачьего потребления и даже вполне благозвучное прозвище – КАРАМИС.
Еще с отрочества Амвросий Карамисов стал отличаться от своих сверстников. Вроде бы был как все, вот рос таким же сорванцом и забиякой, как оно и положено казачонку, но только с малых лет стал он с охотой захаживать к церковному диакону, который по доброте душевной обучал казачьих мальчишек грамоте. Причем Амвросий учился именно с охотой, в то время как большинство его сверстников одолевало книжные премудрости все больше из-под розги…
Читать дальше