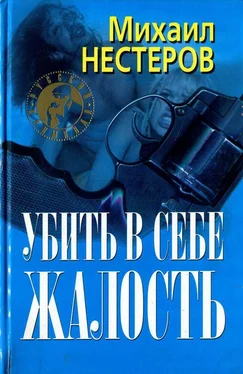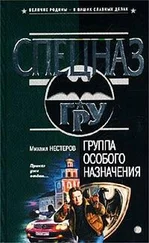Отвечая на телефонный звонок, которых в последние дни было очень много, Курлычкин втайне надеялся услышать голос сына. Перед ним лежала теплая еще кассета, извлеченная из видеомагнитофона. Злоумышленники действовали прямолинейно, способ передачи видеоинформации остался прежним, через почтовое отделение.
На душе «киевлянина» стало полегче, когда он увидел Максима — по-прежнему пристегнутого к трубе наручниками, но с приемлемым цветом лица. Он что-то жует, зачерпывая ложкой из эмалированной чашки, облизывает губы, но в объектив камеры не смотрит. «Преднамеренно? — спросил у себя Курлычкин и ответил так: — Вряд ли». Еще чуть поразмышляв, вернулся к первоначальному выводу: сын не хочет показывать ему своих глаз. Что в них написано, прочесть можно было бы, не заглядывая в словарь: жалеет мать, отца.
«Жалеет падла!» — выругался Курлычкин, снова перенося злобу на сына.
В основном он винил в случившемся не себя, а именно Максима, за его беспечность, а последнее время за наплевательское отношение к родителям. Совершенно не ценит внимания к собственной персоне, не воспринимает ни добрых слов, ни суровых нравоучений. Как будто его воспитание прошло не в родительском доме, а на галерах.
Курлычкину нередко случалось разговаривать с сыном по телефону в деловой обстановке, он всегда насылал на свое лицо нежную заботу, любовь, демонстративно отворачивался от собеседников, едва ли не ворковал в трубку: «Здравствуй, сын. Как ты? Надеюсь, ничего не случилось? Да, детка, извини, сейчас я немного занят». Играл так убедительно, что у уборщицы порой на глаза наворачивались слезы. Не мог иначе, потому как свои же братки могут неправильно понять, когда о здоровье своего чада осведомишься вдруг второпях или, не дай бог, недовольным голосом человека, которого отвлекли от чего-то серьезного.
«Здравствуй, сын… Как ты?»
Можно было бы задохнуться от нахлынувших чувств, если бы всем браткам вдруг позвонили их чада; сколько заботы они бы вылили в эфир, столько любви, что спасение Мира не заставило бы себя ждать. Однако ужаснулось бы ложному вызову и скрылось обратно.
Валентина отвалила с погреба мешки и заглянула в полумрак. Снизу на нее смотрели глаза пленника. Женщина не успела переодеться: как была в платье, так и стала спускаться.
— Горе ты мое… — пробурчала она, отмыкая наручники. И по всем правилам замкнула вторую половину на своей руке. — Вперед! — скомандовала она.
Максим за четыре дня выучил эту процедуру наизусть. Сейчас они поднимутся, быстрым шагом пройдут короткое расстояние от сарая до дома, и его снова пристегнут к трубе отопления. По идее, он мог закричать, позвать на помощь, воспользоваться преимуществом в своей силе, но рядом всегда находился помощник Ширяевой, худой мужчина, на лице которого при желании можно было прочесть все, кроме сочувствия. Пленник не понимал, почему в погреб за ним спускается судья, а не передоверит это мероприятие своему партнеру.
В этот раз во дворе его не было. Пока Максим оглядывался, Ширяева грубо подтолкнула его в спину.
— Не оглядывайся! Я вижу тебя насквозь, сукин сын! Только попробуй дернуться — остаток своих дней проведешь в яме.
Прежде чем взойти на низенькое крыльцо, Максим услышал, как открывается скрипучая калитка, он бросил взгляд на худого помощника Ширяевой и шагнул в дом.
Он не знал, что судья работала следователем и кое-что знала о приемах самообороны. В комнате она неожиданно ловко перехватила свободной рукой запястье пленника и больно вывернула руку. Максим даже вскрикнул от боли. А судья тем временем пристегнула его к трубе.
В углу комнаты лежал матрас, на котором пленник проводил все свое время, когда не находился в погребе.
— Подбери ноги, — Валентина раскатала матрас и тоном, не требующим возражений, сказала: — Отдыхай.
— Может, вы все-таки отведете меня в туалет? — попросил пленник.
— Я уже устала повторять: я умею ухаживать. Мне не в тягость вынести за тобой горшок.
Максиму было бы легче услышать слово «параша», а так Валентина низвела его до уровня беспомощного малыша.
Дважды хлопнула дверь, Валентина вернулась с уже знакомым жестяным ведерком. Жестом, который показался пленнику унизительным, положила в ногах рулон туалетной бумаги.
Форточек на окнах не было, женщина открыла настежь все двери и вышла во двор. Как и в прошлый раз, парень мог наблюдать ее возле колодца: она набирала воду в емкость, выкрашенную коричневой краской, затем переместилась к клубничным грядкам, выискивая ягоды и тут же отправляя их в рот. Привстав, парень увидел присоединившегося к судье помощника. Они о чем-то коротко поговорили, и мужчина ушел. Открытые двери донесли до Максима слабый рокот запустившегося двигателя.
Читать дальше