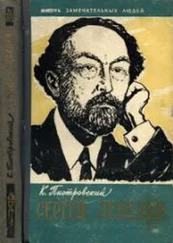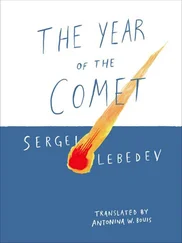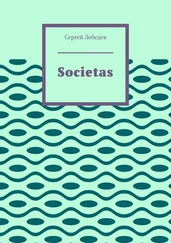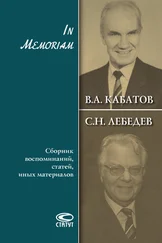Шершнев кивнул.
Пиво было ледяным, в меру горьким, удивительно свежим, словно там, под полом, бил горный пивной источник. Они махом осушили по полбокала, закурили.
Пиво на голодный желудок размягчило ум, и все стало казаться зыбковатым, привычным: длинные ленты мухоловок, облепленные позапрошлогодними мухами, мешкотный матч неудачников, курлыкающие трели игрового автомата. Объект был уже совсем близко, по эту сторону гор, и Шершнев отпустил мысли о нем. Пусть спит. Встреча скоро.
Барменша ушла за вытертую, дырявую занавеску, загремела сковородками. Старик вопросительно глянул на них, перегнулся через стойку, налил еще два стакана.
– Я помню похожую фигню, – сказал Гребенюк, отхлебнув пива. – Это была старая чебуречная. Такая, как в детстве. Мы сидели и жрали шашлык. Кинули в кузов барана по дороге. Там даже стойка уцелела со стаканами и подносами. С алюминиевыми вилками, которые невозможно в мясо воткнуть, гнутся.
Шершнев выпил. Он ел такими вилками еще в гарнизонной столовой, куда приводил его отец.
– И главное было не смотреть в окно, – сказал Гребенюк. – Потому что вокруг был город после второго штурма. Развалины. Почему-то только чебуречная уцелела. Даже вывеску не пробило.
Шершнев кивнул. Он помнил и этот город, закопченный, обожженный, пробитый снарядами, – но с такими же вывесками, магазинами, фонарями, остановками, автобусами, как дома. И это было страннее всего: угадывать в руинах знакомое. Помнил и чебуречную – проезжали мимо нее несколько раз. Значит, пересекались, подумал он. Свои.
Они чокнулись.
В животе забурлило. Шершнев поискал глазами, нашел нужную дверцу. Там, в коридорчике, висел давно пустой автомат с сигаретами и презервативами. Пахнуло хлорным сортирным запахом, запахом уединения. В училище остаться одному можно было только на очке. Да и то в неурочный час. Он спустил брюки, сел, с удовольствием выпростал содержимое бушующего желудка. Даже бачок здесь был древний, прикрепленный к стене, с фарфоровой ручкой на цепочке.
Шершнев потянул. Вода не полилась.
– Мое говно, – сказал он, глядя на унитаз.
Он понял, что пьян, захмелел с полутора бокалов, как мальчишка. Захлопнул крышку, пошел обратно – пусть хозяева возятся. Сполоснул руки, вытер об штаны. Полотенец тут не было.
Гребенюк уже ел. Мясо с кровью. Первоклассная телятина. Шершнев понимал в сортах. Майор сожрал уже половину здорового куска, из угла рта стекала кровяная жижица. Шершнев отрезал с краю, подцепил, стал жевать – свежайшее, парное мясо, откуда оно тут? Отрезал еще, положил в рот, и тут ему показалось, что мясо мычит, мычит страшно и тоскливо. Шершнев уронил вилку, а Гребенюк с усмешкой сказал ему:
– Я чуть не подавился. Тут, по ходу, хлев за стенкой. Скотину они держат.
Шершнев смотрел на кровь, выступившую на мясе. На тоненькие иголочки розмарина. Его мутило. – Не любишь с кровью? – спросил Гребенюк радушно. – Не всем нравится. А я люблю. Попроси хозяйку, дожарит. Хотя это только мясо переводить, жесткое будет.
– Да, я больше жареное люблю, – соврал Шершнев. – Давай еще по пиву.
Они снова чокнулись.
Когда пришло время платить, Шершнев понял, что забыл код от кредитки Иванова.
Он помнил все: старые пароли электронной почты, кодовые слова для связи с посольством, телефонные номера, а эти четыре цифры ускользали, кривлялись, когда он пытался зрительно представить их, шестерка перекидывалась в восьмерку, семерка в двойку, тройка в восьмерку и обратно.
Старуха уже притащила древний терминал, ждала молча. Гребенюк достал свою карту, бегло ввел пароль, и Шершнев почувствовал, как глубоко перепахал его прошедший день, если он забыл число, которое наверняка сам же и увязал с какой-нибудь датой или последовательностью.
Старуха повела их наверх, отперла номера, неожиданно чистые, уютные. Торшеры, шкафы, вышитые гобелены на стенах. Шершневу достался тот, где охотники трубят в рога, у их ног лежит умирающий олень.
Шершнев разделся, поставил будильник в часах на шесть. И уснул, слыша, как ворочается за стеной Гребенюк, как скрипят старые, продавленные сотнями тел, пружины.
Он знал, что завтра все будет хорошо.
Дебютант…
Калитин, человек-с-холма, ушел, отправился домой за препаратом, пастор не смог удержать его. А слово это продолжало витать в сумраке церкви.
Такое знакомое. Такое далекое.
Дебютант…
Оно напоминало Травничеку о первых годах священства. О первых исповедях, которые он выслушал. Сколько их было потом, коротких и длинных, выспренних и вымученных, искренних – и лживых от первого до последнего слова… В лесных деревнях, в шахтерских поселках, в рабочих городах – он читал книги чужих грехов, видел те самые родимые пятна зла, его однообразные лики. Он научился видеть нехитрые закономерности, незатейливые мотивы; особенные черты, столь же ясные, как и приметы профессий; ремесленные мозоли, разные у рудокопов и лесорубов, токарей и рыбаков. Уяснил логику календаря: грехи осенние и весенние, зимние и летние; грехи бедности и богатства, порока и уязвленной добродетели; прошлого и будущего; грехи силы и слабости, власти и рабства, надежды и отчаяния, любви и нелюбви.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу