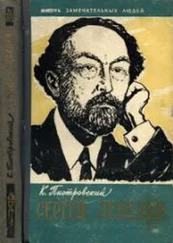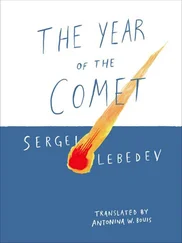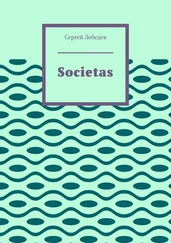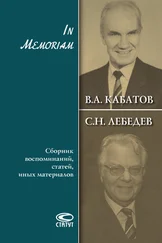– Хорошо, – осторожно ответил Калитин. Пусть говорит что угодно, лишь бы дождаться ночи. Странно, но в церкви он чувствовал себя под защитой. Он представлял, как она выглядит снаружи – угрюмая, темная, ничейная, и это вселяло в него уверенность, схожую с той, что он испытывал на Острове.
– Только не обижайтесь, – сказал Травничек. – У меня плохо получается быть пастырем. Помните Гессмана? Маклера, что продал вам дом?
– Помню, – недоуменно ответил Калитин. – А он-то при чем?
– Я постараюсь объяснить… – протянул Травничек, сцепил руки на груди. – Вы же пришли на похороны. Гессман был когда-то офицером государственной безопасности. Работал в департаменте, который курировал религию.
– Это он вам про меня рассказал? – спешно спросил Калитин, вспомнив догадку о проницательности маклера.
– Нет. Что вы, – смущенно ответил священник. – Мы с ним почти не разговаривали. Я единственный знал, кто он такой. Гессман – вы сами знаете – оказался весьма хорошим маклером. Дела вел безукоризненно. Наверное, если бы он юношей не поступил на службу, мог бы вообще прожить честную жизнь. Продавать людям дома. Да и зло он делал по инструкции. Исполнительно, и не более того.
– Это вы к чему? – с внутренней опаской спросил Калитин.
– Может показаться, что я хожу кругами. Я же говорю, я плохой пастырь, – засуетился Травничек. – Тот маклер, Гессман… Понимаете, мне приходилось сталкиваться и с другими людьми из его ведомства. Они подходили к делу иначе.
– И как же? – разговор начал даже забавлять Калитина; пусть болтает, дуралей, время-то идет.
– Для себя я назвал это творчеством во имя зла. – скромно ответил Травничек. – Даже так: проблемой творчества во имя зла.
Калитин решил немного поддернуть пастора, такого сдобного, такого серьезного и наивного. Он чувствовал наверняка, что Травничек не выгонит его, что бы он ни сказал, как бы себя ни повел. Калитин вспомнил Остров и, наслаждаясь тем, что Травничек не знает, с кем на самом деле говорит, с наигранным оживлением спросил:
– А что вы знаете о зле? Что вы видели? Вы полагаете, что зло – это та слежка за вами?
– Вы правы, – сокрушенно ответил Травничек. – Я знаю мало. Меньше, чем нужно. Но вы и не правы, – голос его неуловимо поменялся, стал глубже, спокойнее. – Я видел зло. Его родимые пятна. У нас в церкви есть гуманитарные миссии. Я ездил. В Югославию. На Кавказ. В Сирию. Я видел концлагеря и не мог открыть их ворота. Видел рвы, полные расстрелянных. Мужчин, убитых солдатами в поле, брошенных голыми на снегу. Деревню после химической атаки. Люди прятались в подвалах, но газ затек туда. Дети там смуглые. А когда их достали, они были белые. Восковые. Старый газ, сейчас такого уже не делают, кажется. Старые распри. Старое оружие. Родимые пятна зла. Я их видел.
– Довольно. Я вам верю, – Калитин хотел, чтобы священник замолчал. Он догадывался, откуда, из каких арсеналов, был доставлен тот газ. И чтобы сбить Травничека с толку, заставить смутиться, замкнуться, он спросил:
– Скажите, а что у вас с лицом? В поездке заболели? На Востоке бывают чудовищные инфекции.
– Я ждал этого вопроса, – безропотно ответил Травничек. – Что ж, я расскажу. Это поможет вам лучше понять меня.
Шершнев видел настоящие концлагеря. Они, правда, назывались фильтрационными пунктами, были устроены наспех, размещены на территории какого-нибудь полуразрушенного завода, лишь бы забор был повыше. А то и просто в поле: четыре вышки да ряд колючей проволоки на столбах.
А вот музей на месте бывшего концлагеря он встретил впервые. Старая крепость, земляные валы, кирпичные крепкие форты. Казематы, служившие камерами.
Моросил дождь. Они ходили, не зная, куда деться, делали вид, что читают стенды.
Все получилось глупее некуда. Шершнев чувствовал себя облапошенным. Как там сказал Гребенюк – адгезия возрастает сверхъестественно? Или майор этого не говорил, а так подумал он сам, Шершнев, выудив откуда-то ученое словечко? Зачем он здесь? Как так получилось? Их словно леший водит. Признать это – рационально. Невозможно игнорировать факт.
Но дальше Шершнев просто терялся. В его опыте не было ни единого намека на возможное объяснение.
Все, что он смог извлечь из памяти, – тоскливое изумление, с которым он смотрел в детстве фильмы с Чарли Чаплиным. Особенно тот, что про боксера. Он сам занимался в секции бокса. Ее вел полутяж Шередега, бывший армейский чемпион, призер союзных соревнований, и Шершнев был не из худших учеников, не зря Шередега писал ему потом рекомендацию в училище.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу