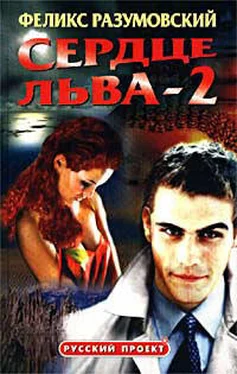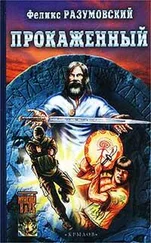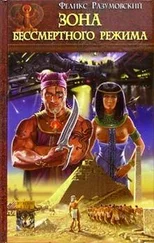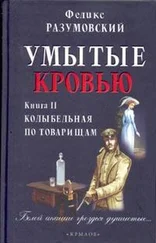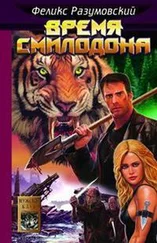Вот так. Этот рыжий клоун, терроризирующий рептилий, сполна получит за свое коварство — нахватался, понимаешь, у евреев их оккультных штучек-дрючек. Сразу видно, они со Змееводом заодно, одним дерьмом мазаны, одна шайка-лейка. Стоило ему гаду королевскую кобру дарить…
— Дорогой, надеюсь, я успею почистить зубы? — плюнув на отсутствие бюстгалтера, Воронцова натянула платье с кружевами, хмыкнула оценивающе, пошла было в ванну, но вдруг остановилась, наморщила лоб. — Ну что я говорила, конечно же магия.
Противно всем законам физики, логики и здравого смысла существо из лифчика менялось на глазах: сморщивалось, таяло, распадалось… Мгновение — и не осталось ничего, кроме змеиной кожи, перьев и бороздчатых устрашающих клыков.
— Вот-вот, сразу чувствуется еврейская рука, — Хорст на миг почувствовал эти зубы в своей шее, еще больше помрачнел и нехорошо оскалился. — Ладно, обломаем и евреям, и арабам, и руки, и ноги. Поехали, дорогая, подмоешься потом. Устроим этой рыжей гадине Ас-Салям Муалейкум.
Поехали. На двух машинах по ночному беззаботному городу. Весело играли в нильских водах огни «Найл Хилтона», «Семирамиса» и «Рамзеса», ревели оглушительно автомобильные гудки, играла музыка в старинной, помнящей еще Наполеона Бонапарта кофейне Фишави, что расположена на рынке Хан-аль-Халили, точный возраст которого неведом никому. Беспечные каирцы гуляли с детьми, ходили по магазинам, угощались голубями, фаршированными кашей, покуривали кальян, почти невинно — набивая его сушеным яблоневым листом с медовыми добавками. Вобщем радовались жизни, пили чай-каркеде, поминали всевышнего — иль хамдуль илла! Слава Господу!
А вот в доме рыжего Муссы царил плач. Скорбели все, громко, в голос — начиная с сына заклинателя Али и кончая старым добрым аспидом, горестно шипящим в своей каморке. Сам рыжий Шейх в церемонии участия не принимал, судорожно выгнувшись, он распростерся на полу и невидящими глазами смотрел в потолок. Лицо его было жутко перекошено, жилистые ноги сведены, спутанная борода в крови. Лежал он не в одиночку, а в компании ихневмонов. Шерсть на зверьках встала дыбом, окровавленные пасти оскалились.
— Он послал Мурру! Мурру он послал! — страшно закричал Али, увидев Хорста, поднял к небу руки и яростно потряс ими. — О аллах! О, отец! О, я отомщу! О, мне ведомо, где его логово!
Пальцы его сжимали мертвой хваткой голубиные потрепанные перья.
— Тихо ты, сынок, тихо, не кричи так, — Хорст по-отечески обнял его, участливо вздохнул, похлопал по плечу. — Сын моего друга — трижды мой сын. Не плачь, береги силы. Ты ведь поедешь со мной в гости к Змееводу?.. С легким сердцем? Вот и отлично, никуда не уходи, — улыбнувшись Али, он передал его в цепкие руки Ганса, пальцем поманил старшую жену Шейха Фатиму и вытащил пачку денег. — Муж твой, о женщина, был добрый мусульманин. Сделай так, чтоб земля ему стала пухом. Я проверю.
В глубине души ему было стыдно, что он подумал о Мусе плохо — слава богу, что все закончилось так. С предельной ясностью.
И было воскресенье, мороз и солнце, день чудесный. К тому же февральский, предпраздничный, знаменующий собой канун зачина красной армии, так что народа на рынке хватало. И продавцов, и покупателей, и праздношатающегося элемента, и ментов, и жулья. Все погрязли в мелкобуржуазной трясине.
В мясном ряду благоухало шейкой, колбасами, шпигованным копченым салом, в молочном отливала янтарем густая словно масло сметана, в отделе для солений притягивали взоры черемша, огурчик, чеснок, хрустящая эстонская капуста. Невольно замедлялись шаги, непроизвольно поворачивались головы, обильно выделялась слюна. Неподалеку спекулянты азеры торговали молдавской грушей, задвигали мандарины из Грузии и пихали яблоки из госторговли, сверкали золотозубо пастями, пушили молодцевато усы.
— Эй, дэвушка! Эй ты, блондынка! Ты туда не ходы, ты сюда ходы! Мой фрукт самый сладкий.
Шум, гам, алчная суета, визг вырываемых из ящиков досок, стук мелочи о железо прилавка, сияющие, похожие на ночные посудины окорята с квашениной. Рынок…
На дворе тоже народу невпроворот. Кто пришел купить, кто продать, кто украсть, кто просто поглазеть, а кто пресечь, засечь, проявить ментовскую бдительность. Волнуется, шумит разномастная толпа, пробавляется по принципу: не надуешь, не проживешь, и в самой гуще ее, привычно раздвигая народ, похаживает в белой куртке Андрюха Лапин, со знанием дела вышибает деньгу, посматривая зорким глазом на вверенный ему фронт работ.
Читать дальше