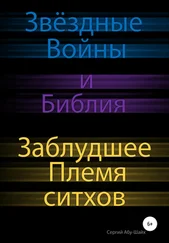Через минут пятнадцать они с братом вылезли у какого-то супермаркета, в котором у Марины была в знакомых хозяйка и договоренность пристроить кузена на работу, оставив Тане с отцом "Тойоту" в полное распоряжение. Татьяна села за руль, отец пересел на сидение рядом с ней и они поехали в центр. Краб долго молчал, слушая радио, звучащее в машине, а потом предположил вслух, что этот Кирилл, может быть, никакой и не брат Марине, а банальный любовник. Татьяна была возмущена.
– Нет, ну, ты его видел? – в ответ на предположение отца воскликнула она. – Он же урод, у него на морде написано, что он дебил и алкоголик!
– Он мордой-то к нам и не поворачивался, – парировал Краб.
– Я его через лобовое стекло еще на автостоянке разглядела, – ответила Татьяна, – он урод! Скажешь, тоже глупость и рад! Что я Маринку не знаю что ли – она на своего Бальгана молится и его только любит! Да и если бы она даже себе и любовника завела, то что она бы себе получше мужика не нашла что ли? Нет, никакой это не любовник, я Марине верю. Хотя черт его знает, я теперь уже никому не верю. Хотя, а завела бы себе любовника Маринка, так и лучше бы было! А то что – одному Бальгану что ли жене рога наставлять позволено? Пусть и она ему наставляет! Марина еще женщина хоть куда – стройная, красивая! Выгнала бы Бальгана к этой дуре длинноногой, которой от него и надо только чтобы он ее "звездой" сделал, а сама Маринка нашла бы себе хорошего мужика и жила бы с ним.
– Может быть, уже нашла? – спросил отец.
– Не знаю, – ответила Татьяна и повернула к бутику.
Они остановились на стоянке, вышли из машины и в это время мобильный телефон, висящий на ее бедре зазвонил. Татьяна взяла трубку, поднесла к уху. Вероятно, она не сразу поняла что ей говорят, переспросила:
– Кто? Коваленко?
Краб резко повернул голову в сторону дочери – ее глаза были полны ужаса.
Композитор Коваленко пробирался поздно вечером по пустынным улочкам подмосковного дачного поселка, о котором позабыли на всю зиму хозяева как ветхих деревянных домиков, так и трехэтажных кирпичных новостроек, спрятанных за высоким забором. Коваленко дрожал от холода и страха – каждая тень казалась ему милиционером, каждый куст – милицейской собакой.
Он был голоден, его знобило и сильный кашель щекотал легкие, но Коваленко сдерживал его, опасаясь быть услышанным и только глухо гукал, как филин, когда это щекотание становилось невозможно сдерживать. Сыпал мягкий снег, закрывая видимость своей пеленой, где-то невдалеке играла музыка, люди готовились к Новому году, на одном из домов яркой гирляндой сверкали лампочки, но ничего не радовало крадущегося в темноте Коваленко – он боялся каждой клеткой своего тела.
У него не было поблизости ни одного человека, к которому он мог бы придти и хотя бы отогреться, хотя бы выпить чашку пусть не сладкого, но горячего чая. Москва была жестока к нему. Когда-то он лютой ненавистью ненавидел свою малую родину Няндому, эту заросшую тухлой плесенью провинцию, в которой никому ничего не было нужно, а жизнь текла как пролитый кефир. Коваленко, как мог, старался уехать оттуда, потому что там никому были не нужны его песни и никто не воспринимал его как гения, а он сам себя таковым считал.
Он искренне верил, что только Москва даст ему шанс "прорваться", только в Москве можно вытащить счастливый билет и начать жить, а не существовать, коптя небо. А вот теперь Няндомский композитор мерз, был голодным и вспоминал свою покрытую плесенью Няндому как какой-то рай, где он мог бы зайти к друзьям поболтать, поиграть на гитаре. И там бы его угостили и чаем, и даже булкой с маслом и колбасой. В Москве у него друзей не было. Да и есть ли они у кого-то в этом городе вообще. Здесь лучшие друзья у каждого только одни – это баксы, евро, в крайнем случае рубли.
Но Коваленко не терял надежды, что когда-нибудь и он заимеет столько этих московских "друзей", сколько только душа его пожелает. Да, пусть он поет и играет пока в бандитском гадюшнике, где его унижают и уже несколько раз получал по шее от недовольных посетителей – все это провинциальный композитор воспринимал как должное – как испытание, которое посылает ему бог для того чтобы в скором времени засыпать немыслимыми дарами за его талант и упорство. Черт дернул его совать свои записи Татьяне. Она казалось ему такой простой, такой доброй, девушкой из народа, которая сама поднялась с самого низа и должна была, по его мнению, помогать провинциальным композиторам, у которых в Москве ни кола, ни двора, ни друзей.
Читать дальше
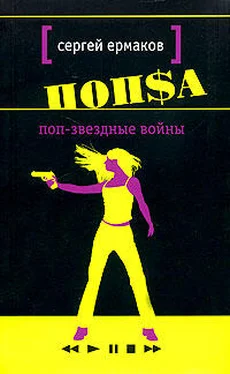
![Сергий Абу-Шайх - Звёздные Войны и Библия - Пустыни [litres самиздат]](/books/437525/sergij-abu-thumb.webp)