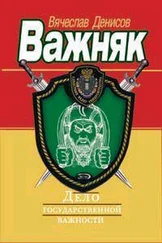– Ты как ребенок, Струге. Каким был раньше, таким остался – всегда веришь в то, что тебе говорят. Ты серьезно полагаешь, что прокурора можно поставить на счетчик? Я пошутил, Антоха…
А за стенами кафе бушевала весна. Если что-то и напоминало о минувшей зиме, то только жалкие клочки почерневшего снега на тенистой стороне улиц да ледяная вода, бегущая по асфальту и несущая пожелтевшие прошлогодние листья к Терновке. Первое апреля. Люди, оставаясь серьезными весь год, копят силы, чтобы отыграться друг на друге в этот единственный день смеха и веселья.
Сейчас, перечитав все это, я убеждаюсь в том, что Смышляев ни в чем не приврал. Ему свойственна такая манера письма – преувеличивать незначительные события и забывать о главном. Но тут журналист оказался предельно честен и беспристрастен. Я знаю Струге. Он любитель почитать на досуге, и если ему в руки когда-нибудь попадет этот роман, он обязательно выскажет мне свое мнение. О стукаче, который сдал всю подноготную. Думается, первым под его «топор правосудия» попаду именно я. Однако у него не будет причин обвинить меня в главном – в искажении реально произошедших событий. А что касается отдельных моментов… Конечно, он сразу устроит разборки с Сашей, со своей женой. Но и ей ему нечего будет предъявить. Она рассказывала мне правду, правду и ничего, кроме правды. Да и Пащенко был со мной предельно откровенен.
На то Смышляев и автор, чтобы свое мнение иметь.
Кстати, насчет Смышляева… Итак, я еще раз грустно восклицаю:
– Господи, до чего все журналисты доверчивы… Смышляев, вы всегда верите в то, что вам говорят?
– Что ты хочешь этим сказать? – подозрительно прищурившись, спрашивает Серега.
– Неужели ты и вправду думал, что я позволю тебе опубликовать эту историю? Прости, Смышляев, но ты ошибся. Я же в прокуратуре работаю, Смышляев. Гонорар имени Пермякова ты, конечно, получишь, но авторские права на рукопись ты теряешь. Пожизненно.
– Ты знаешь, сколько она стоит?? – окрысился журналист.
– Не больше моей тринадцатой зарплаты, – вздохнул, помнится, я. – На большее мне не удастся провести жену.
Сказать, что Смышляев обиделся – это ничего не сказать. Он не разговаривает со мной уже полтора месяца. Пропивает мою премию за 2002 год, шипит и продолжает пописывать в «Зарю» свои микро-триллеры. Ничего – перебесится и простит. Не могу же я, в самом деле, позволить, чтобы все секреты этой истории стали достоянием гласности?! А повторно написать роман он уже не сможет. Во-первых, настрой будет уже не тот; во-вторых, Смышляев работал без черновиков. Ну и, наконец, в-третьих… Он же помнит, что я за такое неповиновение и упорство запросто могу ему все зубы выбить.
Я написал бы роман сам, если бы мог. Но господь лишил меня этого дара. Он и способность строчить протоколы-то выделил мне скорее из жалости, нежели от широкой души. Поэтому и пришлось так нехорошо поступить со Смышляевым. Рукопись будет лежать. Она увидит свет только тогда, когда уже не принесет Антону вреда. А то, что вы читаете эти строки, говорит о том, что такой момент наступил.
Мы часто общаемся с Антоном и каждый раз я вижу в его глазах ту безмерную усталость, которая отсутствует в глазах многих хорошо известных мне судей. Это не тягостное понимание величия работы, которая лежит на его плечах, и не физическая усталость от нечеловеческой нагрузки. Это усталость от борьбы, которую он вынужден вести постоянно, спасая свое доброе имя и честь.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




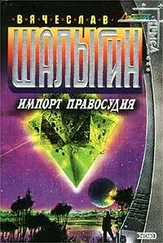
![Вячеслав Шалыгин - Импорт правосудия [сборник]](/books/175853/vyacheslav-shalygin-import-pravosudiya-sbornik-thumb.webp)