В конце комнаты, меж двух рядов открытых кабин, была еще одна дверь. Ее я открыл с несколько меньшими предосторожностями, чем предыдущую, вошел, отыскал выключатель и повернул его.
Это помещение тянулось во всю длину церкви, но было очень узким, не шире трех метров. По обе стороны – полки, сплошь заставленные Библиями. Меня ничуть не удивило, что они точно такие же, какие были в магазине Моргенштерна и Муггенталера и какие Первая Реформатская церковь так щедро раздаривала амстердамским отелям. Вряд ли можно было что–либо отыскать, осматривая их еще раз, но я все же сунул пистолет за пояс и подошел к полкам, вынул несколько штук из первого ряда И бегло перелистал; они были так безобидны, как могут быть безобидны только Библии, то есть безобиднее всего на свете. Беглый осмотр экземпляров из второго ряда дал такой же результат. Я вытащил том из третьего ряда. Этот экземпляр был с ущербом: аккуратно выдолбленная выемка занимала почти всю толщину книги и была размеров и очертаний большого финика. Я достал еще несколько томов из этого же ряда и убедился, что подобные углубления, видимо, сделанные машинным способом, есть во всех. Поставив все книги, кроме одной, на место, я направился к двери в противоположном конце комнаты, открыл ее и зажег свет.
Должен признать, Первая Реформатская церковь с исключительной предусмотрительностью предприняла все, что могла, чтобы соответствовать утверждениям современного авангардистского духовенства, будто обязанность церкви – быть на уровне технологической эпохи, в которую мы живем. Этот зал, занимающий добрую половину церковного подвала, был, в сущности, прекрасно оборудованной механической мастерской.
На мой непрофессиональный взгляд, тут было абсолютно все – токарные и фрезерные станки, тигли, формы, печь, штаммы, а также столы, к которым были прикреплены значительно меньшие машины, предназначение которых осталось для меня тайной. В одном конце пол покрывали туго скрученные кольца латунной и медной стружки. В углу – ящик с беспорядочной грудой оловянных труб, видимо, старых, тут же – несколько рулонов кровельной жести. Все это вместе взятое свидетельствовало о сугубо специализированном производстве, однако трудно было представить себе выпускаемую продукцию, ничего сколь–нибудь похожего на нее на глаза не попадалось.
Медленно ступая, я дошел почти до середины комнаты, когда не то вообразил, не то услышал едва уловимый звук из–за двери, в которую только что вошел, и снова ощутил эти неприятные мурашки на затылке: кто–то смотрел на меня с расстояния всего несколько шагов и наверняка – не с дружескими намерениями. Походка моя оставалась спокойной, что не так–то легко, когда существует реальный шанс, что следующий шаг может быть прерван пулей тридцать восьмого калибра либо чем–нибудь столь же пагубным для затылка. Тем не менее я шел дальше, потому что обернуться, будучи вооруженным лишь зажатой в левой руке выпотрошенной Библией – пистолет по–прежнему был за поясом, – казалось верным способом поторопить чей–то нервный палец, напрягшийся на спусковом крючке. Вольно же было мне вести себя так по–кретински! Ведь сам же отчитал бы за это любого из подчиненных! Судя по всему, теперь предстояло заплатить цену, установленную для кретинов. Ни одной запертой двери, свободный вход для всякого желающего заглянуть внутрь – причина могла быть одной–единственной: присутствие молчаливого вооруженного человека, в задачу которого входило не препятствовать входу, но воспрепятствовать выходу, причем наиболее надежным способом. Где он укрывался? Возможно, на амвоне либо за какой–нибудь боковой дверью, ведущей с лестницы, чего я, по небрежности, не проверил.
Добравшись до конца комнаты, я глянул влево, за последний токарный станок, и, издав негромкий возглас, словно бы чему–то удивившись, низко наклонился за ним. Однако оставался в таком положении не дольше двух секунд бессмысленно оттягивать то, что по всем приметам было неотвратимо. Когда я быстро выглянул из–за станка, ствол пистолета с глушителем был уже на высоте моего правого глаза. Он был футах в пятнадцати и бесшумно ступал в туфлях на резиновой подошве – иссохший мужчина с белым, как бумага, лицом грызуна и блестящими, как уголь, глазами. В сторону защищающего меня станка было нацелено нечто куда более грозное, чем пистолет тридцать восьмого калибра: это был обрез двенадцатого калибра, пожалуй, самое чудовищное оружие ближнего боя из всего когда–либо выдуманного.
Читать дальше

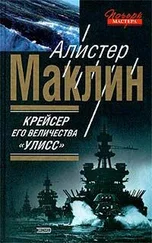

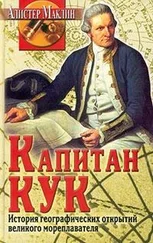


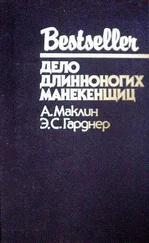


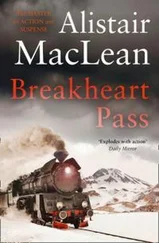
![Алистер Маклин - Марионетка [Кукла на цепи]](/books/421956/alister-maklin-marionetka-kukla-na-cepi-thumb.webp)