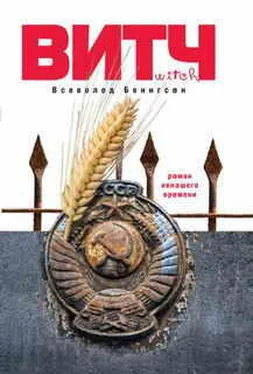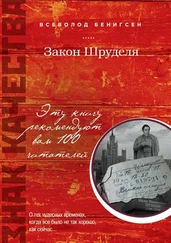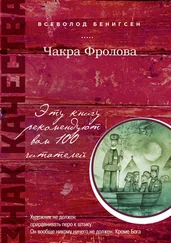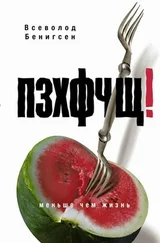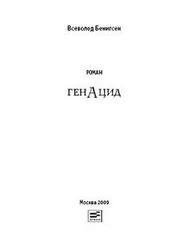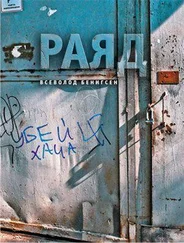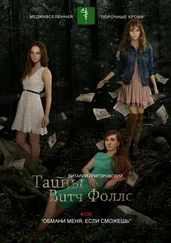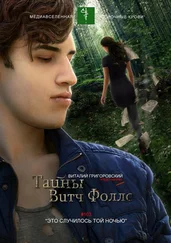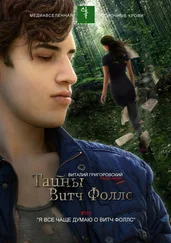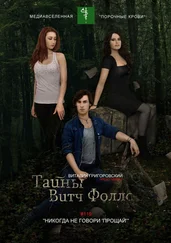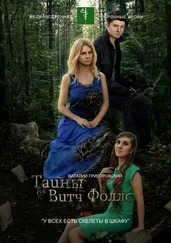Так или иначе, Максим твердо решил вернуться на Родину. Но сначала надо было уладить развод с женой, к которой он уже давно не испытывал никаких чувств, кроме приятельских. Она вообще была прагматиком и никогда не понимала зацикленности мужа на искусстве, и в частности на литературе. Можно было только удивляться, как им удалось прожить вместе почти десять лет. Еще в СССР ей были глубоко чужды и его радости по поводу чудом добытых книжных раритетов, и его вечно голодные приятели, и их собственная семейная неустроенность. Максим же без искусства себя не мыслил. А что было делать в Израиле? В крошечном государстве, главной заботой которого является выживание? Тут уж не до культуры. В общем, жену все устраивало, а Максима нет. Сложнее было с сыном, которого Максим любил, но тот так рьяно занял сторону матери, что Максиму ничего не оставалось, как положиться на время, которое, как известно, лучший доктор. После развода, Максим сразу решил вернуться в Россию — Израиль ему порядком осточертел. Но в России на тот момент царил форменный бардак-разброд, от которого он даже за один год в Израиле слегка отвык. Тогда он решил махнуть к приятелю в Америку — тот обещал устроить Максима в одну из крупных русскоязычных газет. Думал, что на год, но застрял на добрый десяток лет. В Москву вернулся в конце девяностых. Долго привыкал к новому языку, обычаям, отношениям, а также криминалу, но в итоге пообвыкся, пообтерся, пообтесался и даже начал снова что-то пописывать. Не так активно, как в молодые годы, да и все больше какие-то эссе да статьи, но на хлеб с маслом хватало.
Однако через некоторое время он стал замечать, окружающая действительность его раздражает. Он как-то перестал ее, что ли, понимать. Всю сознательную жизнь он мучился от необходимости интриговать и «хитрожопить» (по любимому выражению одного его приятеля) и именно поэтому ходил при совке в неблагонадежных. То было, конечно, влияние шестидесятников со всякими их «хочу быть честным» и «днями без вранья». Потом наконец наступило время полного разгула демократии — все бросились говорить друг другу правду, причем желательно в лицо и с легким креном в хамство (тогда это называлось полемикой). Но затем время сделало какой-то странный головокружительный кульбит, и прямота и честность, которыми все прямо захлебывались в конце восьмидесятых и начале девяностых, неожиданно снова уступили место хмыканью, меканью и беканью. Проблема была в том, что в СССР интриги, невнятица и прочие подводные камни были естественной частью советского пейзажа и несли какой-то смысл (идеологический, политический). Не говоря уж про то, что у некоторых были, образно выражаясь, лоцманские карты этого замысловатого подводного ландшафта — люди учились лавировать между этих камней: читали между строк, искали фиги в карманах, намеки и скрытые смыслы. Даже ложь была почти всегда во спасение. В новые же времена идеология перестала доминировать, но и отношения между людьми распались. Причем до такого молекулярного уровня, что нормой жизни снова стала невнятица — вежливая, хамоватая, раздолбайски-пофигистическая, но, увы, непостижимая, ибо в ней не было ни смысла, ни логики. Это была невнятица, вызванная тотальным отсутствием интереса людей как друг к другу, так и к самим себе. А заодно и к окружающему миру.
Максиму отчаянно хотелось зацепить, ухватить эту реальность, потому что он был уверен, что как никто другой болезненно ощущает ее действие на себе. Можно даже сказать, он пытался вывести формулу нашего времени. В дело шло все: от случайных встреч и брошенных фраз до симптоматичных, как он считал, проявлений.
Вот и сейчас, проснувшись после странного сна с сигнализацией и не менее странного разговора с Толиком, Максим сидел перед монитором компьютера и чувствовал, как кровь медленно, но верно приливает к голове, окатывая мозг своими девятибалльными волнами. На экране «горел» ответ редактора одного журнала на посланную Максимом статью.
«Уважаемый Максим.
Спасибо за Ваше эссе. Оно нам очень понравилось, и мы были бы рады напечатать его в ближайшем номере журнала.
Тем не менее, спасибо за Ваше время и за то, что обратились в наше издание. С нетерпением будем ждать от Вас новых работ.
С надеждой на будущее сотрудничество,
Вячеслав Мазуркин».
Максим несколько секунд в задумчивом и напряжении глядел на этот набор букв, пытаясь вникнуть в смысл письма. Но вникнуть не мог. Было ощущение, будто то ли он со сна чего-то недопонимает, то ли автор письма что-то пропустил. Он еще раз перечитал текст. Нет. Вроде ничего не пропущено. Слова не обрываются, точки в конце предложений поставлены. Он опустил курсор мышки ниже — нет ли какого-нибудь постскриптума, но никакого постскриптума не было. Была, правда, автоматически прикрепленная к письму реклама таблеток для улучшения мужской потенции, но на постскриптум она не тянула. Максим еще раз «побродил» по имэйлу вверх-вниз на предмет какого-нибудь приложенного текстового файла, но ничего не нашел. Тогда снова (уже в третий раз) внимательно перечитал письмо. «Были бы рады», «тем не менее», «будем ждать».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу