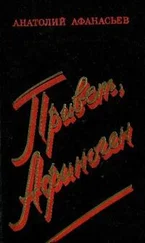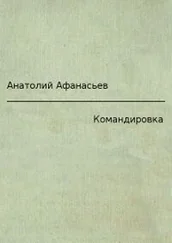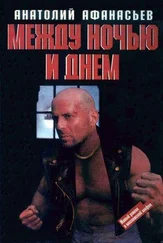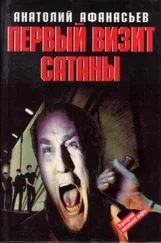Стоя в проеме дверей, старик чутко повел ноздрями, весело уточнил:
— Никак ты, вампирушка?
Улыбаясь, Никита отодвинул старика плечом, не дав себя обнять, уверенно прошагал прямо в светелку.
Скинул шубу и треух, по-хозяйски уселся за тесовый стол, облегченно погрузясь в печную тишину и покой.
Старик вкатился следом, потирая сухие ладошки.
— Бухать будешь, Никитушка? Или на минутку залетел?
— Давай, давай, старче, примем по наперстку с мороза.
Мигом на стол поставилась бутыль чего-то желтого с плавающими стрелками лука и тарелка с немудреной снедью — сало, мокрые мятые соленые огурцы, краюха черного. Старик жил один, но дом вел опрятно — нигде ни соринки, ни пылинки, — образа, старинная, как у купцов, мебель, герань на окне.
— Рад тебе, рад, — запел Скворень, успокоясь, разливая по стопкам золотистую жидкость, которая была ничем иным, как натуральным самогоном собственной выделки: пить казенную Михась опасался после нашествия иноземцев. — Не чаял так быстро повидаться.
Стряслось что?
Никита чокнулся со стариком, опрокинул чарку, сладко хрустнул огурцом.
— Ничего, слава Богу, не стряслось, но в затылок, чую, дышат.
— Кто дышит, вампирушка? Кто насмелился?
— Пока не вызнал... К тебе на консультацию заехал.
Ну-ка, неси инструмент.
Протер стол широкой ладонью, выложил Агатину монету в серебряном ободке. Он приехал по верному адресу. Среди многих статей, под которыми ходил старый греховодник, была одна за изготовление фальшивых денег, но это было, можно сказать, увлечение молодости, не затронувшее его глубоко. Зато на долгие годы вперед Михась Яблонский пристрастился к нумизматике, когда-то посвящал ей весь свой досуг, и одно время его известность была не меньше, чем у Саши Кривого из Москвы и Лехи Кравнюка из Запорожья. По опыту и знаниям он вряд ли уступал любому музейному эксперту.
Запалив над столиком спецлампу на пятьсот ватт и вооружившись старинной лупой в черепаховой оправе, старик уселся над заплесневелой драхмой, как петух над курицей, но изучал ее недолго. Изумленно уставился на кореша.
— Откуда, Никитушка?
— Неужто не подделка?
— Упаси Господь! Нутряная, взаправдашная — да ей цены нет!
— И на сколько тянет?
— Смотря где продать... Да зачем тебе, Никитушка?
Оставь, сберегу.
Бледный взор старика от жадности замерцал голубоватой слезой.
— Оставлю, не трясись!
Никита задумался, и старик ему не мешал: любовно созерцал тусклое свечение монеты. От всех очарований прежних дней у него осталась одна радость — вот эта таинственная магия вечности, воплощенная в холодных ликах старинных монет.
Никита Павлович опять вспомнил великого Саламата, научившего его, в чем смысл жизни свободного человека: расчищай территорию! Неуклонно расчищай территорию, пространство вокруг себя, иначе сожрут.
Где заметишь вредоносную мошкару, трави немедленно и беспощадно. Не жадничай, не оглядывайся назад, свято храни место под солнцем, завоеванное тобой и принадлежащее тебе. В согласии с этим заветом Никита пробирался по жизни подобно асфальтовому катку, сокрушая все, до чего мог дотянуться. Место под солнцем — это там, где ты царь и Бог, кто не понял этого, тот остался младенцем. Достоинство мужчины не в том, сколько он нахапал и скольких женщин обрюхатил, а именно в том, чтобы оставить после себя чистый, сверкающий след на земле, свободную трассу в диком лесу.
Конечно, все это выше разумения большинства обычных людей, живущих суетно, скудно, но великий Саламат открывал свои истины лишь избранным, лишь тем, кто умел слушать.
Сегодня Никита проглядел опасность: ядовитый жучок подобрался слишком близко и почти невидим.
— Скажи, Михась, что значит, если девка дарит такую монету?
— Какая девка?
— Поблядушка Сидора. Оторва из оторв.
Старику Яблонскому далеко до великого Саламата, но он был достаточно умен, чтобы сразу ухватить суть вопроса.
— Одно из двух, Никитушка. Либо не знает цену монетки, либо тебя подставляет.
— Скорее второе. Ведь она же ведьма.
— Вряд ли, — усомнился Скворень. — Если хозяин на тебя катит, зачем ему такие хитрости? Есть простые, надежные средства. Не тебе слушать, не мне говорить.
Может, девка вообще бесится с жиру, а ты башку ломаешь.
— Тоже верно, — согласился Никита, но тревога не утихла.
...Год 1971. Горьковская пересылка, морозная ночь, душная камера, где на шести метрах десять человек, — и позор, позор, рыдание живого юного существа, превращенного в студень, размазанного по стенке. Происшествие, о котором в сознании с годами осталось не воспоминание, а черная метка, напоминающая кусок блевотины, законсервированной в вечной мерзлоте. А вот — год 1998, конец века, богатые, барские хоромы, — и аппетитная самочка, ведьмино отродье, протягивающая на похотливой ладошке бесценное сокровище — медную драхму. Никто, кроме самого Никиты Архангельского, не уловил бы, не почуял связи между этими двумя эпизодами, ее скорее всего и не было, но зияющая, черная пробоина в душе, образовавшаяся в ту жуткую, глумливую ночь, чутко, болезненно отзывалась на любую несообразность, подавала истошные сигналы: соберись! не зевни! вдруг остался свидетель?!
Читать дальше